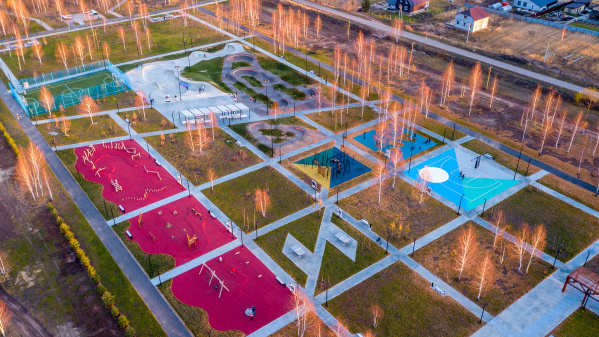Доктор иронических ситуаций
Советник президента открывает Россию
— Как вы познакомились с Россией?
— В 1939 году, будучи школьником, я посетил мировую ярмарку, проходившую в Нью-Йорке. Советская экспозиция буквально очаровала меня. Огромные макеты коммунистических строек едва ли не в натуральную величину. Произведения народных промыслов завораживали меня. Вернувшись домой, я нашел русскую эмигрантку, вдову казачьего атамана, которая согласилась заниматься со мной. Ей я обязан не только знанием русского языка, но и знакомством с русской культурой.
— Среди ваших предков не было русских?
— Не только русских, но даже славян. Мои предки прибыли в Америку из Англии. На первом судне, которое привезло эмигрантов в Америку, на “Майском цветке” находилось 5 Биллингтонов. Первым преступником, который был официально казнен в Америке, тоже был Биллингтон. Быть может, один из моих далеких предков.
— С кем из русских мыслителей вам посчастливилось встречаться во время учебы в колледже?
— Мне повезло. Я учился в Оксфорде у известного русского слависта Исайи Берлина. Тогдашняя русская эмиграция в США была представлена первоклассными учеными и мыслителями. После окончания колледжа преподавал в Принстоне и Гарварде. Там в это же время преподавал православный священник и богослов мирового уровня Георгий Флоровский. Встречался с оригинальным русским мыслителем Георгием Федотовым.
— А в России удалось побывать?
— В середине 60-х я семь месяцев вместе с семьей прожил в Москве — стажировался при Академии наук СССР. Мы отправились в Россию советским пароходом из Монреаля. Со мной в Россию ехала жена и четверо наших детей. Так что знакомство с незнакомой для них страной началось еще во время плавания. Младшие в Москве ходили в детский сад, а старшие в школу. Они тоже знакомились и познавали русскую историю и культуру. В этот период я работал над докторской диссертацией, которая была посвящена русским народникам конца XIX века. В Москве встречался с Надеждой Мандельштам, вдовой гениального поэта Осипа Мандельштама. Познакомился с Варламом Шаламовым, который не так давно вернулся с Колымы. Он уже в те годы писал гениальные лагерные рассказы и стихи. Именно в этот период в Ленинграде познакомился с академиком Дмитрием Лихачевым и хранителем древних рукописей Пушкинского Дома Владимиром Малышевым. Меня интересовал XVII век.
— Как советские власти относились к вашим знакомствам?
— Я не обращал на это никакого внимания. Встречался с теми, кто был мне интересен. Тогда же познакомился с Вячеславом Ивановым, литературоведом и оригинальным мыслителем, которого очень ценил Пастернак. Мы до сих пор поддерживаем дружеские отношения с ним. Уже потом я понял, что власти не очень радостно относились к моим знакомствам. Когда я захотел еще раз приехать в СССР в начале 70-х, мне попросту не дали визу.
— Это не прервало ваших занятий русской историей?
— Конечно, нет. Я продолжал свои занятия, но уже в западных архивах. Семнадцатому веку я посвятил исследование “Икона и топор”, которое недавно вышло и в России на русском языке. После этого я работал над темой революции — причем не только русской, но прежде всего Великой Французской. Меня интересовало происхождение революционных терминов, развитие лексики и всевозможных проектов. Мое исследование посвящено развитию революционных идей и революционерам, еще не взявшим власть.
— Когда создавалась Национальная библиотека, каково было ее основное назначение?
— В первую очередь она рассматривалась как вспомогательное подразделение, которое призвано помогать работе конгресса. До сих пор мы готовим необходимые документы и справки для конгрессменов. Но очень быстро библиотека переросла эти тесные рамки. Много лет назад библиотека приобрела знаменитое собрание сибирского купца Геннадия Юдина — 85 000 томов. В конце XIX столетия библиотекой пользовался в сибирской ссылке Владимир Ульянов (Ленин). Сегодня в ней хранится около 2000 цветных фотографий конца XIX — начала XX вв., сделанных в России. В том числе российскими императорами Александром III и Николаем II. Мы гордимся нашей музыкальной коллекцией. У нас хранятся подлинники многих произведений Рахманинова, Прокофьева, Стравинского.
— Как вы оцениваете сегодняшние отношения России и США?
— Мне кажется, что сейчас наступил наиболее плодотворный период в истории наших отношений. В 1999 году мы вместе с академиком Дмитрием Лихачевым разработали проект, который называется “Открытое общество”. Я всегда ценил Лихачева не только как выдающегося ученого. Он постоянно рождал новые идеи, казавшиеся современникам парадоксальными и неисполнимыми. Настоящий русский патриот, но в то же время предельно открытый влиянию всех культур гениальный ученый. Программа “Открытое общество” рассчитана на то, чтобы в США приезжали из России выдающиеся представители из самых различных областей: культуры, медицины, юриспруденции, экономики. Они приезжают к американским коллегам, живут в их домах и плотно знакомятся с их работой. Для русских это возможность не только увидеть, как работают их коллеги, но и самим включиться в работу. За прошедшие три года в США побывали 4 тысячи человек. Начиная с лета этого года мы готовимся принять еще две с половиной тысячи россиян. Мы знакомим россиян с той частью русской истории и первоисточниками, которые хранятся в Национальной библиотеке конгресса. Благодаря Интернету открыт доступ к редчайшим документам.
P. S. Мы обратились к президенту российского филиала института “Открытое общество” Екатерине Гениевой: “И фонд и институт не собираются прекращать своей работы, но кому-то хочется прекратить нашу деятельность. Хозяйственный конфликт, возникший вокруг здания, в котором располагаются фонд и институт, существенно мешает нам работать. Несмотря на дрязги и попытки выколотить из нас дополнительные деньги за аренду, мы ведем одновременно около сотни благотворительных проектов и не собираемся их сокращать”.