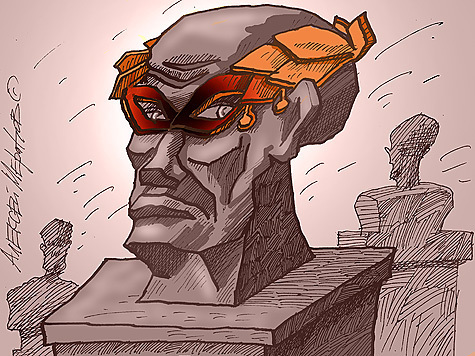Хорошо или плохо, если художник заявляет: мое дело выплеснуться, а вы понимайте мои откровения как знаете? Может, таким и должно быть искусство — без цели, формы, призыва, попытки угодить и подладиться, без ангажированности обществом? К такому самораскрытию и надо стремиться?
А понятность, попытка обозначить свою позицию, вмешаться в жизнь, повлиять на ее процессы, научить и просветить — это плохо, вульгарно, топорно? Пошло? Может, отсутствие позиции и есть эта самая позиция, манифест, лозунг?
Или существуют разные искусства? Десятки типов искусств? Или некоторые из этих искусств искусством не являются?
Но, если вдуматься, в незнании, в колеблющемся неведении по поводу того, что именно хочешь сказать, заявить, таятся смысл и разгадка. Невозможно общество без идеалов, ориентиров, целей, а именно в такую размытую и оскопленную эпоху нам выпало жить.
* * *
У сегодняшнего творца сложное положение. Он не может, не способен огорошить, впечатлить, зажечь социальной и политической новостью — так, как это сделает газетная статья или телевизионный репортаж. За какую тему ни возьмись — оперативная журналистика опередит и медлительного, основательного литератора, и бойкого пейнтера-копировальщика действительности, им не потрясти воображение читателя и зрителя ужасами ГУЛАГа или правдой об Октябрьской революции, все рассказано и отображено первопроходцами этих тем. Взорванная бомба в метро или убийство военнослужащего с последующей продажей его внутренних органов по силе воздействия на самый искушенный и изощренный мозг переплюнут любую сагу о Форсайтах или полотно Гогена. Что остается? Интерпретировать уже лишенные прессой невинности события — в “художественной форме”? Вряд ли попытка имеет смысл. Нужен “выверт”, который продемонстрирует новое озарение новым знанием. (Как у Кафки: человек превратился в жука.) Нужна иная градация сопоставления реальности с вечностью. А повторение всегда банально. Бесперспективно подражать Толстому и Достоевскому — хотя бы потому, что вряд ли сыщутся литературные философы их уровня, а толщина созданного фолианта не всегда эквивалентна уровню заложенных в него чувств и ума.
Искать пути синтеза, изобретать нечто способное переместить человека в иную плоскость бытия, в неведомый мир, который пока не знаком никому, — вот что вызволит искусство из прозябания без цели и опознавательного флага.
* * *
Все чаще произведение искусства (но искусство ли это?) становится результатом конвейерной сборки, когда над воплощением замысла трудятся многие и осуществляют его методом бригадного подряда… Один придумывает (или заимствует у классиков) захватывающий сюжет. Другой дотягивает перипетии до обостренной напряженности. Третий снабжает хлесткими диалогами. Четвертый наполняет лихими интригами. Пятый вносит лепту в расцвечивание всеми оттенками радуги… Получается, что и говорить, броско. Ярко. Коллективный разум сильнее индивидуального… если этот индивид не гений. Но остается ли в конвейерном процессе место индивидуальности?
* * *
По всей земле толпятся творцы, ну прямо как рыбы или гуси, ожидающие кормления, а сверху от Всевышнего им сыплются подсказки, флюиды вдохновения — и каждый, кто во что горазд, расталкивая коллег, стремится поймать подачку пожирнее и повыигрышнее.
Аналогичная толпа, правда, размером чуть меньше (ибо отдельные служители муз все же сознают реальную собственную значимость), осаждает Нобелевский комитет и прочие авторитетные жюри с намерением получить вознаграждение за свой труд (хоть какие-нибудь воздаяние, премиюшку) — им мало разжиться заказом от Господа и выполнить его с прилежанием, им подавай не только Богово, но и Кесарево, и массовое, и еще и бренное, и грубое — в придачу к бесплотному и возвышенному.
* * *
“Три мушкетера” Александра Дюма начинаются как юмористический рассказ: неуклюжий провинциал приезжает в столицу и совершает по неопытности и из-за собственной неотесанности цепочку смешных поступков. Его нелепые, бестактные порывы дают читателям возможность вдоволь потешиться над простаком, а его будущим товарищам-мушкетерам дарят возможность вызвать его на поединок. Смешное и рискованное соседствуют и сосуществуют в миллиметре друг от друга. (Мы не смеялись бы над клоунадой Чарли Чаплина столь заразительно, если бы его герой не балансировал на грани получения серьезной травмы, а то и гибели…)
Но там, где большинство так называемых юмористов поставит точку — похохотали и довольны! — Дюма разворачивает полный приключений драматический и захватывающий сюжет, а Чаплин ведет зрителя в печальную и оптимистическую философию. Смех — отправная точка, повод, фон и подтекст, подкладка, подоплека гораздо более серьезного разговора.
* * *
Стоит ли сочинять произведение, суть которого выражена в 66-м сонете Шекспира, — то есть по существу впустую тратить время и силы на фиксацию и разжевывание этого великого творения? Ведь в этом сонете сказано все и обо всем.
Но Высоцкий сочинил “Я не люблю” — о том же самом, но совершенно иначе, другим языком и с учетом наступивших новых реалий. Получилось равное произведение.
* * *
Жизнь течет своим чередом. Людям, которые отправляли тело Чехова в Москву в вагоне с надписью “Устрицы”, в голову не могло прийти: это унизит и оскорбит вкус тонко чувствующей публики (сам Чехов уже не мог по этому поводу ни иронизировать, ни горевать). У отправлявших ящик с телом была своя сермяжная правда и рутинная обязанность: доставить груз. Такая у них была работа. Вряд ли они посещали театр, читали литературные журналы. Узнай они о том, как воспримут надпись на вагоне те, кто любил Антона Павловича, и пожали бы плечами, а то и искренне попытались бы сгладить неловкость, заранее скорректировали ситуацию, убрали эту надпись, чтоб не травмировать тонкие, чувствительные души. Но, может быть, и не попытались бы. И не почесались бы.
Схожую ситуацию описал сам Чехов в рассказе “Палата №6”, когда привыкший угождать врачу тупой сторож — ради поддержания порядка в лечебнице — избивает этого самого доктора, теперь уже ставшего пациентом. У сторожа свои определенные обязанности, и он, в силу своего разумения, обязан их исполнять, ему не до тонких переливов чувств, не до интеллигентских нюней.
Речь — о двух разных, несоприкасающихся человеческих мирах…