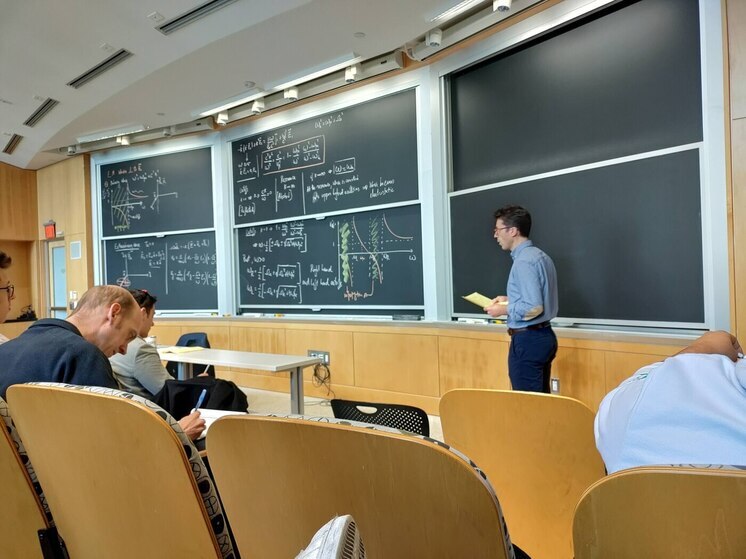Ефим Шифрин — человек-загадка. Клоун с грустными глазами, он всегда на виду. Про артиста Шифрина мы знаем все или почти все. Кажется, ни дня не проходит, чтобы он не мелькнул на том или ином телеканале. 25 лет на сцене без каких-то копеечек — вот он, весь как на ладошке. А что известно про Шифрина-человека? Да практически ничего. Откровенными подробностями своего житья-бытья он общественность не балует, в скандалах не замечен. Тихо-мирно перестал сниматься в программе “Аншлаг”. Да... и зовут его вовсе не Ефим, а Нахим. С этого и начался наш разговор в холостяцкой квартире Шифрина, что на проспекте Мира.
— Здравствуйте, Нахим. Ну и как вам живется столько лет под чужим именем?
— Нормально. Я, честно говоря, отзываюсь на любое имя. Меня так часто путали, называли и Женей, и Илюшей, и Левой, и даже Мариком — на все откликался. Хотя многие знакомые меня Нахимом до сих пор зовут. Конечно, какая-то неловкость в том, что я ношу чужое имя, есть. Но также под чужими именами живут и Нонна Мордюкова, и много наших певуний драгоценных — их имена вообще никак не соотносятся с родными. Аллы превращаются в Маш, Маши в Анжелик. Я уж не говорю о голливудских звездах: Копперфильд вообще был Коткиным, а Кирк Дуглас был Иссуром Демским. И ничего страшного.
— Но все-таки с именем Нахим вы бы вряд ли вошли в элиту советской эстрады.
— Вы считаете, что “Ефим” лучше? Я не думаю, что имя сыграло значительную роль. Были тогда и Семены, и Марки, и даже Зиновии, и как-то их все время показывали. Я сейчас, глядя на свои прежние эфиры, понимаю, что мог раздражать. Существовала привычная послерайкинская эстрада с некоторым количеством артистов этого жанра. А тут еще какой-то чудной чернявый мальчик с резким неприятным голосом. Какая-то нелепая манера полусонного, диковатого и очень чужого человечка.
— Но потом-то этого человечка приняли за своего. Тем удивительнее было узнать, что, оказывается, вы несколько лет назад ушли из “Аншлага”.
— Самое удивительное, что я нигде ничего не говорил. Никаких манифестов не подписывал, ни печатно, ни прилюдно не заявлял об уходе. Просто перестал сниматься, и все. Кстати, и никогда не оценивал качество передачи. Нет, меня, конечно, спрашивают об “Аншлаге”, но ответа, который надеются услышать, никогда не дожидаются. В моих правилах: уходить, не прощаясь, тихонько прикрывая дверь.
— В одном из интервью вы сказали, что за 12 лет в “Аншлаге” не получили ни копейки.
— Ну, это совсем не было причиной ухода. На телевидении вообще люди денег не получают, как бы об этом ни думал обыватель. Какие деньги? Меня с “Аншлагом” не связывали ни договоры, ни обязательства. Я пришел в передачу, когда это было почти журналистское расследование. Очень милая ведущая, знакомая мне по радиэфирам, о чем-то нас расспрашивала, мы что-то ей рассказывали. И передача потихоньку превращалась в некий развлекательный проект. Об ее уровне никто не говорил. В развлекательном жанре тогда, кроме угасавшей “Вокруг смеха”, вообще ничего не было. У “Аншлага” еще не было ни кетчупов, никаких торговых спонсоров, ничего. Разговор о заработках не стоял. Телевидение нас показывало, мы становились известными и разъезжали по стране. Вот и все.
— А теперь, когда имя сделано, телеэфиры вам не нужны?
— Нет, ну почему. Когда мне есть чем поделиться, я с удовольствием принимаю предложение, но когда я становлюсь телефигурой, эдаким дежурным по эфиру, мне кажется, что это немножко не моя специальность. Я не должен сидеть в ящике, у меня другая работа. Однажды записанный номер должен был, как сигнальная ракета, оповестить моих зрителей, что у меня нового. А когда сигнальную ракету пускают раз, два, три, то, как в сказке Толстого, уже никто не пугается — волки, так волки. Помимо моего желания номера появлялись в передаче столько раз, сколько хотели этого создатели. Меня никто не спрашивал: хочу я этого — не хочу.
— Вас это раздражало?
— Смущало. Вообще, слова “раздражение”, “негодование”, “ненависть” не из моего лексикона. Я могу смутиться, могу затаиться, могу обидеться. Мне казалось, что я имею отношение к тому, что делаю в этой передаче. Свои номера никому в собственность не отдавал. Я вправе распоряжаться своей частью труда, потому что остальной труд — зафиксировать все на пленку и предъявить зрителю — по степени затрат не такой тяжелый, как у меня.
— Так, значит, не на пустом месте появились слухи о вашем якобы конфликте с Региной Дубовицкой?
— Да нет. Я вообще не конфликтный человек. Может быть, вспыльчивый и гневливый, но очень отходчивый. Просто страшно не люблю упрощений. Я понимаю, что жанр по сути своей и так прост и упрощать его почти до арифметической задачки — дважды два четыре, вообще смысла нет. Если выбросить ну хотя бы какие-то намеки на второй план, на какие-то нестандартные решения, то останется уж совсем не искусство, а народный промысел. И вспыливал я как раз тогда, когда мне казалось, что получается все даже проще простого. И потом, мне всегда казалось, что у телеведущих в силу их актерской необученности и невоспитанности функции должны быть более скромные. Я с трудом представляю, например, Николая Николаевича Дроздова, который со своими зверюшками разыгрывал бы сценки, или Юрия Сенкевича, который, отправляясь в заморские путешествия, устраивал бы капустники с аквалангистами. Мне кажется, что актерская профессия настолько сложна, что требует хотя бы какого-то непродолжительного обучения. А просто так ввязываться в актерскую игру — это надо обладать известной степенью смелости. Вот Надя Бабкина, очень простая в своих высказываниях, когда я ее спросил, почему она рассталась с одним музыкантом, ответила: “Понимаешь, я расту и привыкла, чтобы росли вместе со мной. А если он не растет — на х...!” Поэтому, когда личность развивается, ей уже не очень подходят маски детсадовских чад. Не очень-то уж органично смотрятся они в ситуации “воспитательница и воспитанник”. А все время ходить в панамках и держаться за юбочки друг друга можно лишь до известного возраста, после сорока это становится невыносимо.
— А почему тогда у передачи такие высокие рейтинги? Это говорит об уровне нашего народа?
— Владимир Иванович Даль сказал: “На каком языке человек думает, тому народу он и принадлежит”. Я считаю: каков уровень культуры народа, такое искусство он и выбирает. А прав он или не виноват, как об этом можно судить? Ведь даже о любви можно говорить языком “Тристана и Изольды”, а можно нашей “По муромской дороге”. И то и другое имеет отношение к искусству. А то, что “Аншлаг” собирает в провинции полные залы... Это почти как гастрономический интерес. Знаете, у нас в классе одна девочка не любила помидоры. А я так обожал всю эту жидкость в салате, которую источают помидоры вместе с луком и сметаной! Мне казалось, что она просто выеживается, говорит неправду. Ну как можно не любить помидоры?! Это все из того же разряда. Ведь гурманство в искусстве очень похоже на гастрономическое гурманство. Предложите сейчас кому-нибудь на глухом российском полустанке отведать живых устриц с лимоном. Что вы услышите? Люди привыкли завтракать черным хлебом и яичницей.
— А откуда им знать, что такое устрицы, если вы их все время будете кормить черным хлебом.
— Нельзя на сеновале есть ножом и вилкой. Мои герои чаще всего люди незамысловатые, они не ходят на светские тусовки, не изъясняются литературным языком. Про них и не надо говорить сложно. Они не будут узнаваемыми, перестанут быть твоими соседями по подъезду. Да я и не думаю, что у великих артистов, не будем их всуе называть, было другое качество текста. Сейчас уже можно оценивать — это не была литература в высоком ее значении. Может быть, за исключением того периода в жизни Райкина, когда в ней был Жванецкий. Эстрада по определению не может быть высоким искусством. И когда некоторые искусствоведы и критики при слове “эстрада” брезгливо морщат нос, мне кажется, им стоит не поступиться принципом того же Жванецкого, у которого в миниатюре на этот счет прозвучал замечательный совет: “Пахнет — отойди”.
— И вы отошли. Сейчас все больше играете в театре, снимаетесь в кино, поете песни. Черный хлеб эстрады стал приедаться, вас потянуло на устриц?
— Вы знаете, мне, как тому еврею, которого спросили: где ему больше нравится — здесь или за границей. Он ответил: в дороге. Такое счастье — быть свободным и делать то, что тебе хочется. С радостью вхожу в антрепризы, соглашаюсь на съемки в сериалах — это же совершенно новая для меня система координат. А вранье и фальшь возникают от некого чувства обязанности тому, что тебя уже не греет. Как в браке: какое счастье любить, а не исполнять супружеские обязанности. Страшнее формулировки нет. Какие “обязанности”, как их можно “исполнять”? Это же ужасно!
— Критические стрелы в адрес вашего исполнения песен не беспокоят?
— Я что-то их особенно не замечал. Может, они пролетали мимо. Сознательно-то их в свой колчан я не собираю. Если почувствую дружное зрительское неприятие того, что делаю, то, знаете, у нас в ДЭЗе полно вакантных мест. Думаю, работу себе нашел бы. А пока я собираю полные залы, мои песни иногда даже принимают лучше монологов — у меня просто не было пока повода над этим задумываться. Тем более, я учился вокалу, и, в отличие от многих наших певцов, предложенные мне песни разбираю с инструментом сам, а не записываю их с голоса композитора.
— Достается вам и за сценические костюмы. Уж больно экстравагантные. Считаете себя модником?
— Слово “мода” в разговоре со мной можно вообще не упоминать. Никогда не носил то, что принято называть фирменной шмоткой. Модная вещь — это то, что можно купить в любом бутике. А опасность того, что еще десять мужиков кроме меня в это обрядятся, просто убивает. Как можно купить фирменную тряпку и считать, что она тебя украшает. Я покупаю, конечно, кое-что в магазинах для жизни, но у меня все меньше и меньше таких вещей. Ветшающие концертные костюмы постепенно переходят в мою частную жизнь. Уже много лет мы с моим художником придумываем сценические костюмы. И я счастлив оттого, что это ношу только я.
— За своей внешностью следите?
— Ну, что значит — следить. Можно красить ресницы и прокалывать уши, пудриться по утрам после бритья или выливать на себя литрами парфюм. В наше время уже ничем не удивишь. Мне кажется, следить за своей внешностью — это стараться ею не раздражать. Вот что такое красиво есть? Это не умение изящно отставлять мизинчик, а стараться, чтобы не вытошнило твоего соседа.
— А у зеркала много времени проводите?
— Вообще не провожу. Я вам больше скажу, даже стараюсь не смотреть свои телеэфиры и делаю это только по внутреннему принуждению, чтобы еще раз ужаснуться, еще раз потрястись от того, как это плохо сделано. В зеркале я себя вижу разве что сразу после душа, когда высушиваю волосы и бреюсь. И никогда не репетирую перед зеркалом — оно слишком плохой партнер. Все равно от него ждешь комплиментов. Это скорее приличествует женщине, она всякий раз в себе находит какие-то скрытые прелести. А мужику, я считаю, много времени у зеркала проводить не надо. Оно собьет с толку, обманет. Да и зачем? Лет десять назад еще можно было бы задержаться у зеркала, но теперь, после сорока...
— Но известно, что вы ходите в спортивные залы, накачиваете, так сказать, мышечную массу. Не для того, чтобы нравиться себе и окружающим?
— Не вижу в этом никакой связи с зеркалом. Я занимаюсь спортом не для того, чтобы вечером запереться в комнате и посмотреть на результат дневных усилий. Вот ко мне вчера пришла одна журналистка, наснимала меня перед спектаклем и говорит: “А теперь маечку снимите, покажите торс”. Я говорю: зачем? Она не нашлась, что ответить... Чем любоваться-то? Я комедийный артист, никогда не считал себя красивым, не претендовал на роли героев. Единственное, что мне хотелось бы: не потеть в присутствии зрителя, не пыхтеть и не пукать.
— Помню, в начале 90-х, когда вы низко кланялись перед зрителями, у вас отчетливо была видна лысина. Сейчас ее нет.
— Ну, может быть, сейчас я не так низко кланяюсь. А вас что, интересует, не делал ли я трансплантацию волос из подмышек в затылок? Нет, не делал. Просто заросло. Я так уговаривал свое темечко, и оно меня послушалось.
— Про вас говорят, что вы человек закрытый, неудобный для общения...
— Кто говорит? Приведите меня туда, где обсуждают Шифрина. Мне кажется, что я как раз меньше всего занимаю светскую тусовку. Как-то раз, помню, я провел Новый год в одной шумной компании совершенно незнакомых мне людей. Как обычно, все уставились в телевизор, и мне вдруг стало жутко интересно: как же воспринимают наше телевизионное появление в таких сообществах. Я был просто потрясен — каждое новое лицо на экране рождало столько метких и грубых характеристик. Когда объявили мой номер, я просто встал и вышел покурить в коридор. Мне показалось, что я их очень напрягу своим присутствием: при мне они не смогут меня обсудить. Поэтому скопления людей, которые обо мне говорят, мне неведомы.
— Но все равно, приходилось слышать, что на двери с табличкой “Частная жизнь Ефима Шифрина” висит амбарный замок огромных размеров.
— Вы так говорите, как будто заранее уверены, что я схимник. Зарядил себя запасом крупы, спрятался в пещере… Когда меня спрашивают о частной жизни, я, как ежик, ощетиниваюсь и становлюсь колючим. Что я вам должен поведать: с кем я ложусь спать и с кем просыпаюсь? Обычно этим исчерпывается интерес к личной жизни. Многие актеры выставляют напоказ своих детей, которых воспитывали, жен, с которыми расставались, курортные романы. Мне просто нечем хвалиться. Люди, которых я люблю, никакого отношения к актерской тусовке не имеют. Ни одну из моих подружек никогда не печатали на обложках модных журналов. 90—60—90 — это не их стандарт. В моем представлении подобные расспрашивания — вещь негодная. Если я утолю ваше любопытство, у меня будет ощущение, что меня всего побрили и лишили кожной смазки. Мне тогда совсем станет неуютно. Я поделюсь с вами источником своего тепла, а в наши зимы — это совсем непозволительная роскошь. Оставьте мне мое тепло.
— Но вы же понимаете, что интерес к вашей личной жизни неспроста.
— Да, но и неспроста моя закрытость. Те разговоры, которые не относятся к моей работе, мне кажутся лишними и ненужными. Основное содержание моей жизни — это работа. Интересничать, поддерживать интерес к своей персоне какими-то чудесами и экстравагантностью мне незачем. Ведь как сейчас: украли из сумочки бриллиант — отличный повод, чтобы тебя вспомнили. А мне кажется, лучший повод напомнить о себе — сделать что-то хорошее. Вы посмотрите на мои окна, как они плотно занавешены даже при свете дня. Я так себя чувствую защищенным. И свет вроде есть, и вроде ничего не видно. Вот тут мой кабинет, вот мои книжки, вечером сюда кто-то придет, утром уйдет.
— Вам есть что скрывать от внешнего мира?
— У Лермонтова есть такая строчка: “Весь мир против меня, как я велик!” Я не воспринимаю мир враждебно. Я так живу, не стыдной и не незаконной жизнью, просто мне не нравятся группешники. То есть участие в моей личной жизни еще некоего количества людей, которых я не вызывал для интима. Зачем же мне утолять любопытство толпы, которое к тому же завтра же и исчезнет. Моя закрытость — это просто способ поддержать тепло в квартире. Вы же заклеиваете окна не из-за стремления оградиться от грабителей. И я рад, что вы у меня совсем не отняли моего тепла.