...А начать придется с личной справки. Наша дружба с Фазилем началась еще до моего переезда в столицу — с полдюжины моих рецензий на его книги: «Спасибо за статью в «Дружбе народов» — она меня обрадовала и доставила истинное удовольствие. Хотя люди, хвалящие нас, всегда кажутся тонкими и проницательными, на этот раз уверен, что статья хороша вне похвалы и вне меня», — писал мне Фазиль из Москвы в Ленинград летом 73-го по поводу статьи про «День Чика». А потом Лена Клепикова героически пробила в «Авроре», где работала редактором отдела прозы, следующую повесть Искандера «Ночь Чика», с которой у Фазиля были трудности в московских редакциях. «День Чика» проскочил, а его сиквел «Ночь Чика» — ни в какую из-за фрейдистской подоплеки новой повести. Фазиль искренно удивлялся: «Так на то и ночь, чтобы все страхи повылазили…» Убежден, что Фазиль ни до, ни после Фрейда не читал, а дошел до запретного тогда в России психоанализа своим умом. Как и до много другого. Я его назвал как-то «тугодумнодосутидодум». Будучи словесным лакомкой, он повторил за мной это длиннющее словообразование, словно пробуя его на вкус, смакуя и запоминая мой идиоматический мем. Ну да, Фазиль Искандер — самородок, но самородок окультуренный.
А когда я переехал в Москву, мы оказались соседями в Розовом гетто, писательском кооперативе на Красноармейской улице, да еще окно в окно. Наша дружба приобрела рутинный характер — виделись на регулярной основе, а не только по красным дням календаря и дням рождения.
Когда профессиональный журналист Фазиль Искандер начал писать стихи, это задело самолюбие главного редактора сухумской газеты, который тоже писал стихи: для одной газеты двух поэтов оказалось слишком много, Фазилю пришлось покинуть редакцию, он сосредоточился на стихах, выпустил несколько поэтических сборников. Потом профессиональный поэт опубликовал в «Новом мире» гротескно-пародийную повесть «Созвездие Козлотура», с нее, собственно, и началась всесоюзная слава Фазиля Искандера.
Главный герой в этой сатирической повести — рогатый гибрид козлотур, гипербола мнимости, директивно возведенная в разряд реальности. Главный герой этой лирической повести — сам автор. Вот он делает необязательное отступление в собственное детство — не играя никакой роли в фабуле «Созвездия Козлотура», мемуарный этот экскурс служит своего рода противовесом: это внешнее и мнимое, имя ему — козлотур, а это нутряное и истинное — жизнь автора-героя, независимая от козлотурной интриги. Между двумя этими сюжетами, основным и вставным, протянут соединительный мостик — «тонкий, как волос, и острый, как меч», если воспользоваться гениальной метафорой из священной для предков Фазиля книги, Корана.
И вот, выдвинувшись благодаря «Козлотуру» в первые ряды русских прозаиков, Искандер и тут вильнул в сторону от им же проторенной дороги и от шестидесятничества в целом: стал писать рассказы, где сатира исчезла вовсе, а юмору пришлось еще больше потесниться, ибо жанровый и семантический упор перенесен на лирическое и философское восприятие реальности. Одновременно эти рассказы были смешными, и читатель с облегчением признал в них любимого автора — встреча со знакомым незнакомцем. Зато в помянутом «Детстве Чика», а еще больше в «Ночи Чика» Искандер предстал перед своим читателем вовсе неузнаваемым, и хотя это одна из лучших его вещей, она прошла незамеченной: читатель ее встретил равнодушно, критика — молчанием. Моя рецензия, с которой началась наша с Фазилем дружба, была чуть ли не единственным откликом. Писатель в своем движении обогнал читателя, который был захвачен врасплох, не понял, что к чему.
Тут, однако, на пути супер-пупер-удачливого автора возникают препятствия, связанные не только с его собственными творческими метаморфозами, но и с отнюдь нетворческими — скорее наоборот, метаморфозами времени, которое пошло в противоположном направлении, чем художник: вот они и разошлись, как в море корабли. Фазиль Искандер начинал свой писательский путь на инерции хрущевской оттепели, а тут политически подморозило: началась новая фаза советской истории — брежневская стагнация. Больнее всего она поначалу ударила именно по культуре.
На гребне оглушительного успеха ржачного «Созвездия Козлотура» «Новый мир» заключил с Фазилем договор на «Сандро из Чегема», но Фазиль под видом абхазского народного эпоса сочинил самый сильный и самый острый роман в постхрущевскую пору с потрясающей главой «Пиры Валтасара». Лучший по силе художественного воздействия, а по сути самый страшный образ Сталина в фикшнальной прозе, даже если сравнивать с такими высокими образцами, как у Василия Гроссмана в «Жизни и судьбе» либо у Владимира Войновича в «Чонкине». Именно из-за «Пиров Валтасара» начался конфликт Фазиля с официальной литературой: договор был с ним подписан в одно время, а его опус магнум был дописан совсем в другое, когда изменился сам вектор времени.
У Искандера был свой счет к «отцу народов».

Часто суть не важно, кто писатель по происхождению, — как говорил Бабель, «хучь еврей, хучь всякий». Однако в судьбе Фазиля Искандера, который по матери абхаз, особую роль сыграла национальность его отца. Тот был персом, и однажды товарищ Сталин, «большой ученый» и крупный спец именно по национальному вопросу, решил депортировать наличествующих в подотчетной ему стране персов обратно в Иран. Там они, включая отца Фазиля, были встречены отнюдь не с распростертыми объятиями: шах решил, что Сталин подсылает к нему своих шпионов. Кстати, единственное рациональное обоснование этой иррациональной акции, но шах явно не был знаком с образчиками сталинского сюра. Мнимые сталинские шпионы были закованы в цепи и отправлены на рудники, мать Фазиля стала соломенной вдовой, он сам — соломенным сиротой. Вот откуда этот печальный, трагический привкус счастливого советского детства Чика, хотя об отце прямым текстом Искандер рассказал в другой своей книге — «Школьный вальс, или Энергия стыда». После смерти Сталина Фазиль предпринял поиски отца, и формально они увенчались успехом — он разыскал его через несколько месяцев после того, как тот умер…
Оправдана ли жанровая метаморфоза, которую произвел с романом Искандер, скрестив его с фольклором, с мифом и с житием? Один из редких случаев создания мифа в современной литературе. (Два других — Габриэль Гарсиа Маркес и Уильям Фолкнер.) Само появление мифологического героя было не очень своевременно. Это чувствовал, по-видимому, и автор, иронизируя над ним, подчеркивая старомодность и некоторую даже оперность его фольклорной фигуры. Получается так, что, с одной стороны, Сандро корректирует течение современной прозы, а с другой, современная проза, в свою очередь, меняет очертания былинного персонажа и самой агиографии как все-таки старомодного жанра литературы.
Эпос помножен на быт, пафос соединен с усмешкой. Иконописность размыта, хотя и не уничтожена вовсе — не богатырь, а балагур, не Тимур, а тамада. Впрочем, немного и богатырь, немного и Тимур. Образ выстраивается ассоциативно — как сцепление различных черт и далеко не однозначных поступков. Вспомним: Ходжа Насреддин удален от нас во времени — его четкий образ проецируется на размытом историческом фоне. Иное дело Сандро — человек ХХ века, наш современник, свидетель событий, которые не успели еще стать историческими сгустками, — вплоть до его случайно-неслучайной встречи со Сталиным. Искандер дает сослагательную предпосылку жизни Сандро: «Его могли убить во время Гражданской войны с меньшевиками, если бы он в ней участвовал. Более того, его могли убить, даже если бы он в ней не принимал участия».
Главу «Пиры Валтасара», центральную, главную, заветную, цензура зарубила на корню, но и остальной текст романа сильно покорежила. «Самая, на мой взгляд, зрелая вещь «Житие Сандро Чегемского», которую собираются в чудовищно обрезанном виде давать в «Н.м.», — писал мне Фазиль из столицы нашей родины в столицу русской провинции. — Здорово мне все это портит кровь, потому что много вложил в нее, а пока идти на скандал (довольно крупный, учитывая полученные деньги, рекламу и т.д.) не решаюсь. Авось цензура дотопчет, может, и решусь... Посмотрим». В таком подвешенном состоянии я и застал Фазиля, когда переехал в Москву.
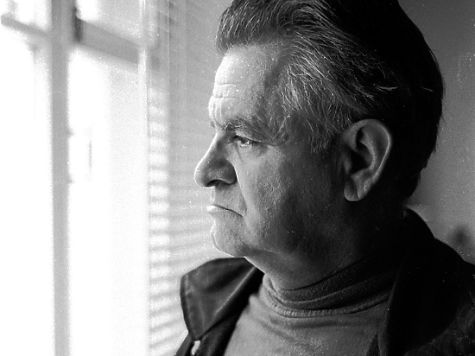
Такой вопрос стоял не перед ним, но и перед его собратьями по писательскому цеху. Многие рвали — вынужденно — с официальной советской литературой. Тот же Войнович, сосед и друг Фазиля, решился напечатать за бугром своего «Чонкина», на которого у него тоже был договор с «Новым миром». Фазиль — не решился, ампутированный роман-обрубок вышел в «Новом мире» и вместо того, чтобы стать востребованным, резонансным, скандальным произведением, впечатления не произвел, прошел незаметно. Центр русской литературной жизни сместился — чтобы не сказать «переместился» — из метрополии за бугор. Независимо, где проживали писатели — там или здесь, их книги выходили за пределами России — в Европе, Израиле, Америке: стихи Бродского, романы Гроссмана, Войновича, Аксенова, Владимова, Корнилова, рассказы и повести Довлатова, да хоть гротески-сексизмы Юза Алешковского. Применительно к этой новой культурной ситуации можно слегка перефразировать средневекового философа-схоласта Николая Кузанского: центр русской литературы повсюду, а поверхность — нигде.
Тот скандал, о котором Фазиль писал мне и на который так и не решился, и был тем самым выбором-риском, гениальную формулу которого вывел Паскаль: там, где в игру замешана бесконечность, а возможность проигрыша конечна, нет места колебаниям, надо все поставить на кон. Трагедия Искандера-писателя в том, что, если бы не его Гамлетова нерешительность, большой талант соединился бы с исторической судьбой, и русских нобелевцев по литературе было бы одним больше. Да, убежден: Фазиль Искандер — несостоявшийся нобелевский лауреат, пусть это и внешний показатель. Он опоздал, время вышло, поезд его судьбы скрылся за поворотом. Полный вариант «Сандро из Чегема» вышел у Профферов в мичиганском издательстве «Ардис» спустя шесть лет после новомировской публикации.
Фазиль пережил тогда страшную душевную травму, перенеся ее из литературно-политической плоскости в семейную сферу. Я написал об этом повесть «Сердца четырех», где прототипы двух героев, хоть и не один к одному, — Фазиль Искандер и Володя Войнович. Списанный с Фазиля литературный персонаж взревновал жену к человеку, который решился на мужской поступок в иной, гражданской сфере, а он не решился. Так и было на самом деле. История достаточно драматичная, но могла кончиться и вовсе трагически. Фазиль действительно гонялся за Тоней с кинжалом. Ей чудом удалось увернуться, она выбежала на лестницу и пару дней пряталась этажом ниже у Сарновых. Фазиль продолжал ревновать, но за нож больше не хватался. Однажды Тоня шепнула мне:
— Вы даже не представляете, Володя, до какой степени я невинна!
Что же до Фазилевой ревности, то я и сам дикий ревнивец, хоть и не гоняюсь с ножом за Леной Клепиковой, и ревность Фазиля как раз возвышает его в моих глазах. Его ревности я знаю реальную, но безотносительно к Тоне, причину — в отличие от своей.
К Фазилю идеально подходит хрестоматийная формула Генриха Гейне: «Трещина мира прошла сквозь мое сердце».

В то время даже я, по cоветским стандартам вполне преуспевающий критик, историк литературы и член Союза писателей, почувствовал, как мне тесно в цензурных пределах отечественной литературы, и сочинил на питерском материале исповедальный и покаянный докуроман «Три еврея»: о КГБ, о Бродском, о питерской атмосфере страха и удушья. Фазиль вернул мне рукопись с запиской, которая начиналась со слов «Замечательная книга», а дальше шли восемь мелких замечаний, из которых семь я учел, а восьмым — убрать матерщину — пренебрег. Так же, как его императивной просьбой по поводу самой записки: «Уничтожь!».
Это был мой первый роман, и получить такой отклик от писателя, которого я считал не только другом, но и классиком, было большой для меня поддержкой.
Особенно, как-то лично заинтересовался Фазиль московским постстскриптумом к «Трем евреям» про звонок Геннадия Геннадьевича Зареева из КГБ.
— Ты кончаешь на самом интересном месте,— сказал Фазиль.— А что было дальше?
— Дальнейшее — молчание. Не о чем рассказывать. Дальше не было ничего. Литературный прием — оборвать на полуслове, заинтриговать читателя. Тебя, например.
— Прием? Геннадий Геннадьевич Зареев — не прием, а живой человек. Что ты ему ответил? Он тебе больше не звонил? Ты с ним встречался?
— Я — нет. А ты?
— Я — да. Но тебе говорю единственному. Он взял расписку о неразглашении. Ты вот написал целый роман о встречах с КГБ в Питере, а я даже не решился, кому сказать. Думал, голова лопнет. Тогда у меня крыша и поехала. А не от алкоголизма и не от ревности. Но как ты ему отказал? Послал его, да?
— Нет, конечно. Страшно занят, сказал, пишу «Трех евреев», не вдаваясь в подробности. Как и было. Да и о чем нам разговаривать? В Москве без году неделя, никого не знаю, даже настучать не на кого. Зареев хихикнул и повесил трубку.
— Ты отшутился, а мне не удалось, — взгрустнул Фазиль.
— От питерских мне тоже не удалось, — успокоил его я.
— Но ты написал про встречи с ними, а я — нет, — продолжал долдонить Фазиль.
— Даю слово, в следующем романе ни слова про гэбье. Пусть будет КГБ-невидимка.
— Ты пишешь еще один роман? — удивился Фазиль.
— Да. Про нас с тобой и про всех остальных. Держись меня подальше.
Тогда я и в самом деле затеял московский вариант «Трех евреев», но из-за отвала не успел, и потом нет-нет да заглядывал в него, как в черновик, для своих «Записок скорпиона», а потом для «Высоцкий и другие. Памяти живых и мертвых».
Такая вот история. Из песни слова не выкинешь.
Вот и ушел из жизни мой друг Фазиль Искандер, лучший прозаик из наших современников, который нанес на литературную карту созданную им вымышленную страну Искандерию. Хочу, однако, кончить этот антинекролог на веселой ноте.
Искандер испытал сильнейшее на себя влияние Льва Толстого. Помимо литературных он брал у графа еще и уроки морали, что иногда, на мой взгляд, приводило его к ригоризму, делало его поздние сочинения похожими на средневековые моралите.
Помню наши с Фазилем на эту тему споры. Я ссылался на два авторитета: на Пушкина и на моего рыжего кота Вилли. «Господи Суси! какое дело поэту до добродетели и порока? разве их одна поэтическая сторона, — писал Пушкин на полях статьи Вяземского. — Поэзия выше нравственности — или по крайней мере совсем иное дело». Что касается Вилли, то он, пока мы с Фазилем спорили у нас дома, гонялся, за неимением ничего более достойного, за собственным хвостом — занятие, которому мог предаваться бесконечно. Устав от Фазилевой риторики о нравственной сверхзадаче литературы, я привел моего кота в качестве адепта чистого искусства: творчество — игра, цель — поймать себя за хвост. К тому времени мы были уже слегка поддатые, Фазиль поначалу был шокирован моим сравнением, но потом рассмеялся и стал сочувственно следить за тщетными попытками Вилли цапнуть себя за хвост.
В этом нашем споре победил не Фазиль Искандер и не Владимир Соловьев, а кот Вилли, хоть ему и не удалось поймать себя за хвост. Даром, что ли, он эмигрировал вместе с нами в Америку…
Владимир СОЛОВЬЕВ,
Нью-Йорк.





















