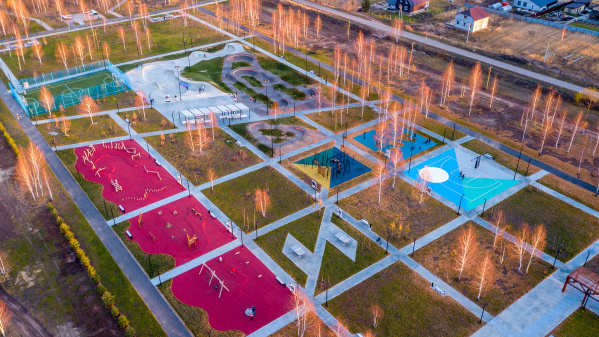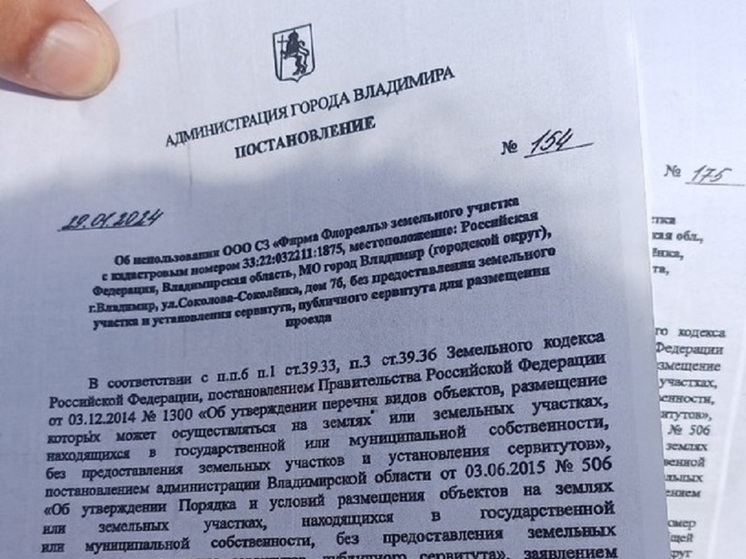Притворство и есть подлинная суть
Поэзия не без кокетства рифмовала:
Все мы — святые и воры
Из алтаря и острога.
Все мы — смешные актеры.
В театре Господа Бога.
То есть хотела сказать (и сказала), что кривлянья происходят по воле и мановению (или ради удовольствия) Всевышнего?
Но это не так. Или не совсем так: вряд ли Верховному Зрителю доставляет удовольствие наблюдать — изо дня в день, из века в век — жалкое паясничание скверных комедиантов и словоблудов.
Литература долго настропалялась и привыкла-таки исследовать очевидные противоречия переменчивой натуры мужчин и женщин — как отдельные забавные аномалии. Семейная пара, появляясь на людях, изображает идиллию брачных отношений, в то время как оба супруга изменяют друг другу. Аналогичные несоответствия и противоречия легли в основу многих классических сюжетов. Но мало-помалу выплывало: препарировать надо не (вроде бы парадоксальную) комичность. Отклонения не есть из ряда вон выходящие случаи, а самые что ни на есть общераспространенные типичности, присущие почти всем. Типичные в своей повседневности.
Четырехглазые монстры
Смутные подозрения о том, что никто ни в ком и ни в чем не может быть уверен (даже в малой степени), давно смущали интуицию художников. Да и неискушенных в умствованиях граждан не обходили стороной. «Чужая душа — потемки», «Человека видим, а души его не видим»… «Происходит совсем не то, что происходит и явлено нашим глазам». «То, что предстало в благообразном, а то и торжественном сиянии, на самом деле чудовищно». Однако отрешиться, отшвартоваться от казавшегося надежным причала и устоявшегося взгляда на «венец творения» — как на кристальный сосуд, наполненный миррой — решались немногие.
И все же ярчайшие плоскостные шедевры Возрождения, воспевавшие боттичеллиевскую возвышенность и рубенсовскую телесность, отступили перед уродцами, запечатленными (с натуры) Босхом и Брейгелями. Дальше — больше. Возникли полотна с красавцами и красавицами о двух подбородках, четырех глазах, сосками на спине, под лопатками… Этот вселенский ужас, поначалу охаянный и отвергнутый тонкими ценителями прекрасного, был тем не менее куда как реалистичен.
Для простоты (и примитивизируя, спрямляя путь и динамику подобной метаморфозы) проследим интересующее нас преображение на примере экзистенциальной биографии Пикассо, рисовавшего жену в период очарования строго и буквально в соответствии с ее вполне несимметричной внешностью, а после скандального расставания изображавшего ее монстром. Эту внутреннюю ипостась бывшей возлюбленной мастер и выволок — думаю, не только ради эпатажа — на бесстрастный холст.
Аналогичное разочарование в прототипах произошло в масштабах всего мира. И обнаружилось: массив графических, фотографических, литературных, музыкальных, человековедческих характеристик был создан, как правило, огульно и ошибочно — т.е. понапрасну? Ибо люди актерствуют не для само- и богоуслаждения, а потому что от рождения тщатся предстать теми, кем не являются.
Все врут. И писатели тоже
Казалось бы: ну и раздваивается личность — что особенного? Но вопрос надо ставить вот в какой плоскости: почему и зачем раздваивается? Кто мы — в связи с этим раздвоением — такие? Зачем такие? Что нами движет? Напыщенность? Алчность? Страсть? Голод? Что вытекает из наших скрытых глубин и бездн? Это вот уж не скучные в своей непознанности конгломераты. Ибо получается: в реальности происходит совсем не то, что явлено глазам, а гораздо более неочевидное, значительно более непознанное (и страшное) в своей непознанности. Флёр фальши, окутывающий каждое наше движение, если совлечь его и обнажить подтекст и подоплеку, расскажет о человеке гораздо больше, чем было известно до этого. Проще станет расклассифицировать наши тайные поползновения.
Согласно этой логике, вовсе не высокое небо Аустерлица, скорее всего, волновало и занимало князя Андрея в момент смерти, вовсе не о красавце-дубе должны были течь его мысли, а о куда более прозаических объектах. Хотя, возможно, и о дубе он тоже размышлял. Не о смешном и жалком Грушницком, вероятно, призван был задуматься Печорин, а о том, как сам выглядит в глазах окружающих. Не о глобальной революции должны были размышлять Верховенский и Шатов в «Бесах», а большеухий Каренин не должен был убиваться из-за измены жены… Поскольку целый мир погряз в бесконечном притворстве, то и писатели не чураются привирать.
Далеко не всегда обман выступает со знаком минус. Если заболевший, лукавя, говорит близким, что чувствует себя хорошо, он не извлекает из своего притворства выгоды. Равно как и родственники, которые уверяют обреченного, что он будет жить еще сто лет. Но обман, даже возвышающий, облагораживающий, анестезирующий, не перестает быть обманом.
Итожа сказанное и обозревая окружающий мир, усомнимся: созван и идет полным ходом съезд врачей-отоларингологов или празднуется вручение наград киноакадемии? Происходит смотр профессионального мастерства?
Сдуйте, соскоблите маскировку, сотрите глянец и обнаружите в подтексте все тот же обман, соперничество амбиций, утверждение заведомой неправды (внутри которой возникают отдельные попытки этой неправде противостоять): делят призы, награды, звания, деньги, ищут и находят партнеров и партнерш для постельных забав, самонарекаются мессиями… И так — во всем, во всех сферах бытия. Взаимовыгодные сделки, обмен баш на баш прикрываются (более или менее умело, удачно, пафосно или под сурдинку) мнимым общепринятым благообразием. Это и есть главенствующая мораль? «Совесть — официальное название трусости», — говорил Оскар Уайльд.
Cумасшествие
«Требую неукоснительной порядочности!» — говорим мы. Что это значит? (В нашем устоявшемся понимании?) Безоговорочное соблюдение принципа двойной морали? То есть норм беспринципности? Показушности? Вранья — во имя тиши и глади?
Поэтому не удовлетворимся распространенной расхожей банальностью: «Мир — театр, люди в нем актеры». И осознаем, сколь бесценны проявления природной настоящести — будь то безоглядно искреннее сумасшествие или болезненное юродство. Потому так ценны подлинные чувства и недвусмысленные поступки — честность в ущерб себе и свершенное в отчаянии самоубийство.
У вас не ладится жизнь? Начальник не любит? В семье раскардаш? А вы поставьте себя в условия Марины Цветаевой — негде и не на что жить, сыну светят те же ужасы, что мужу (минимум — тюрьма), энкавэдэшник принуждает сделаться осведомительницей. Античная трагедия — в полной мере и объеме Медея ХХ века. В таких условиях и выявляется стержень, суть личности, до того пребывавшей в двойственности, тройственности, десятеричности.
И в жизни, и в литературе есть характеры, не допускающие подозрений в ненастоящести: князь Мышкин (идиот), порожденный пушкинским юродивым из «Бориса Годунова», преподобная Ксения Петербургская — если и миф, то уж очень материальный, до поджилок всамделишный. Естественно, мы, изовравшиеся и изъюлившиеся, считаем таких не от мира сего изгоев неадекватными. Если по поводу Алексея Каренина можно колебаться в толкованиях и оценках, если во Вронском можно подозревать кокетство и уступчивость условностям, то касательно Анны Карениной судим однозначно: самолюбования и кичливости своей разящей внешностью в Анне нет.
Выходит, лишь грянувшее безумие есть подлинная искренность и настоящесть ненастоящего человека?