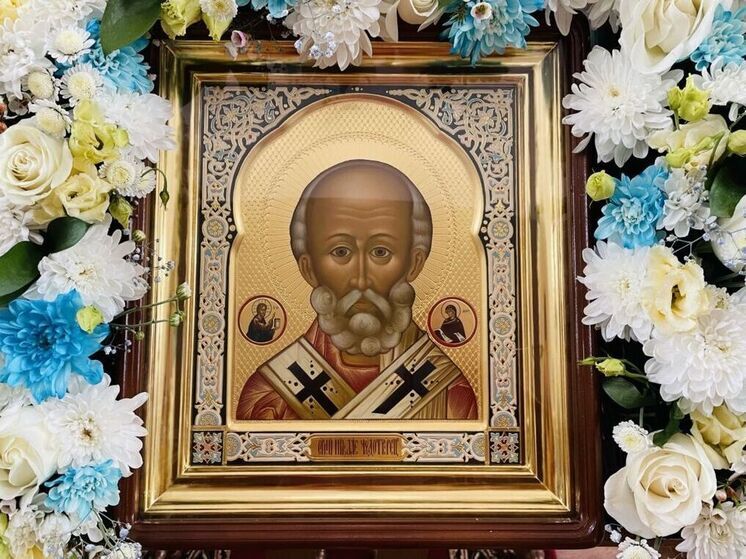Концепция мегаполиса — города, где всегда нужны люди и где легче всего добиться успеха, общенационального «плавильного котла», — не изменилась. Но кадрам 60–70-летней давности мы умиляемся, а наблюдая похожие явления (новостройки и много новых людей) сегодня, испытываем сложные чувства. Что это — общее свойство человеческого сознания («что прошло, то будет мило» — и через полвека точно так же умиленно наши внуки будут смотреть сериалы из начала 2020-х)? Или особенный, советский способ создания гипергорода?
Столица в этом раннем фильме Эльдара Рязанова такая же подлинная, что и в зрелом «Служебном романе», и не менее эстетично снята. В те годы про Москву и в Москве снимали много фильмов — как художественных, так и документальных. Некоторые из них прямо и недвусмысленно звали — приезжайте в Москву, в лучший город Земли, столице нужны люди, и здесь можно найти свою судьбу. Вот и «Девушку без адреса» можно счесть такой «рекламой» — точнее, наверное, историей успеха, разве Москва когда-нибудь нуждалась в рекламе?
Название добавляет эту картину в плеяду других «девушек» — ранее были девушки «с коробкой» (Борис Барнет, 1927) и «с характером» (Константин Юдин, 1939), а год спустя, в 1958-м, выйдет «Девушка с гитарой» Александра Файнциммера. Все эти девушки так или иначе своей харизмой, силой характера, другими положительными со всех сторон качествами покоряют Москву, а значит, и добиваются счастья. Попутно подтверждая, что именно здесь, в лучшем городе Земли, можно быстрее всего добиться успеха.

Вот она… Какая?
Роскошные начальные титры не просто приглашают «окунуться» в «оттепельную» Москву, но и хорошо соответствуют ее тогдашнему состоянию. Это уже не скучноватые прямые «римские» буквы сталинского кино, но еще и не авангард с его рублеными линиями, острыми углами и прочими кунштюками. Столь же гармоничной смотрится и Москва конца пятидесятых. Уже с высотками и бетонными перекрытиями (на одном из которых Паша Гусаров, герой Николая Рыбникова, чертит угольком расчеты числа Кать Ивановых и Никольских переулков). Но еще без модернистских стекляшек и хрущевок. Остановись, мгновенье!.. Но увы, увы.
Москва раскрывается перед вновь приехавшей в столицу Катей (Светлана Карпинская) — Ленинградским вокзалом (странно, ведь поезд ее приехал из Сочи!), огромной вокзальной парковкой с новенькими такси «Победа», модными по тем временам «лобастыми» автобусами ЗиС-154, фурами-рефрижераторами. Обратим внимание: Комсомольскую площадь, как и сейчас, пересекало множество трамвайных маршрутов. Но трамваев в кадре почти нет. Почему? Да потому, что трамваи в пятидесятых считались устаревшим транспортом, чего ими гордиться. А мы показываем Москву с ее парадной, лучшей стороны.
И вот — вопреки какой-либо топографической логике, но вполне в рамках логики «парадной экскурсии» — Катя едет на автобусе по Ленинградскому проспекту, видит главный перекресток тогдашней Москвы между улицей Горького и Охотным Рядом (с перспективой автомобильного потока по Красной площади, которая тогда еще была проезжей). Потом — Большой Каменный мост с так называемым «трехрублевым» видом на Кремль, потом снова улицу Горького. Несколько раз полностью высунувшаяся из окна автобуса девушка (вот времена были, окна открывались!) восторженно смотрит наверх — видимо, на одну из сталинских высоток…
Вокруг в это время снуют автомобили — в потоке уже нет довоенных и трофейных авто, их «искоренили» в столице в начале пятидесятых. Зато — выставка послевоенных достижений советского автопрома: вот «Победа-кабриолет» и другие «Победы», в том числе пикап; вот торжественный ЗиС-110 в версиях лимузина и даже кабриолета, вот ЗиМ, «Москвичи» первого поколения, «козлики» ГАЗ-69. Все новенькое, свеженькое и необычайно привлекательное: Рязанов снял настоящую рекламу советской Москвы, впрочем, как и многие режиссеры. Но при этом значительную часть потока составляют грузовики — во-первых, так и было в реальности, а во-вторых, мы же не в Чикаго каком-нибудь.
Это — парадный тур по Москве (чтобы зритель вслед за героем, как в «Иване Васильевиче...» Гайдая, сказал: красота-то какая, лепота!). Но почти сразу начинается город непарадный, живой. Вот Катя и ее дедушка (Эраст Гарин) выходят из автобуса и направляются к роскошному дореволюционному доходному дому Макарова (Новокузнецкая улица, 33). Напротив — старенькие двухэтажные домишки Замоскворечья, в том числе один деревянный. Дальше — когда нам покажут скитающуюся по городу Катю и разыскивающих ее Пашу с другом Митей (Юрий Белов) — мы увидим куда больше подлинных московских деталей, которые для нас сейчас на вес золота. Например, точильщика с портативным ножным станком, к которому стоит очередь из почти деревенского вида хозяек. Или огромную коммуналку с велосипедами, прислоненными к шикарному когда-то барскому камину, и складом корыт в ванной…
Пока же мы видим квартиру в мансарде дома на Новокузнецкой, где живет Катин дедушка. Как и сама Катя (которая через пять минут экранного времени будет порхать по комнате и все прибирать, как диснеевская Золушка), герой Гарина, видимо, большой аккуратист: все у него по линеечке и чисто убрано. Буфет, абажур с бахромой, скромный радиоприемник, чай из огромных фарфоровых кружек, на стене репродукции передвижников и фотография родственников, венские стулья, отрывной календарь на стене — дедушка, как полагается пожилому служаке, пунктуален и аккуратен.

Чистота или мещанство
Впрочем, это — аккуратизм, любовь к чистоте, как говорили в раннесоветские времена, «культура быта» — свойственно многим героям фильма. Причем по большей части — москвичам в первом поколении. Катя, только приехавшая в столицу — раз; дедушка — два; а три — Паша и Митя (первый, в мужской компании да под бутылочку, мусорил в купе в самом начале фильма, но вот комната в общаге у друзей — образцово-показательная, можно иностранцев на экскурсии водить).
А вот кому бытовая чистота не свойственна — это «мещанам», среди которых как раз преобладают москвичи со стажем. Вот, скажем, все та же «воронья слободка», в которой побывал Паша в поисках Кати (и откуда попал в милицию): неопрятненько, а ведь это не общага, все население — как раз «коренные», уплотненные да обросшие за свой век огромным количеством барахла. Или мещане с размахом — ответработник Комаринский с супругой (Сергей Филиппов и Зоя Федорова), у которых Катя на несколько дней задерживается, пытаясь исполнять обязанности домработницы. Пыли у них в доме столько же, сколько вещей-«пылесборников», то есть много. Правда, хозяйка кричит, что с частью пыли «не нужно бороться», так как она неподвижная. Но не такова Катя — молодая комсомолка, разумеется, хочет вымести всю грязь (и в этом, конечно, преуспевает).
Есть, правда, и одно исключение — это Оля (Светлана Тарасова), идеальная молодая москвичка с манерами и из интеллигентной семьи. У нее дома тоже полный порядок. А еще — в отличие от вышеупомянутых «мещан» — она принимает новую москвичку Катю как сестру. Зато Пашу, допустившего ошибку с адресом, население той коммуналки приняло за грабителя. А уж как отнеслись к Кате Комаринские — вообще отдельная песня о московском «буржуйском» снобизме и классовой ненависти.
Итак: чистота в быту, похоже, коррелирует с чистотой душевной — и потому новым москвичам по пути с лучшими из «старых», а вот худших из «коренных» они заведомо превосходят.

Правильно — это по-советски
Почти из всех окон — квартир или общежитий — в фильме видны или сталинские высотки, или Кремль, или другие знаковые панорамы столицы. Условность, конечно, — и все-таки это важно. Как важно и то, что у Катиного деда (который, как мы помним, чистюля — а значит, несмотря на свое ворчание и «отсталость», хороший человек) на стене висит фотография Красной площади.
«Каждый ребенок разберется, — звенящим голосом чеканит Катя. — Правильно — это по-советски, а неправильно — это не по-советски!» Фраза, которая могла бы быть мантрой; но при всей ее наивности смысл очевиден. Новые москвичи — а Катя именно что модель такого свежеприехавшего в столицу человека — воспитаны по-советски, а значит, отлично вписываются в жизнь лучшего города мира. И не просто отлично — а лучше многих коренных.
На Кате — простенькие, скромные, но ладные платьица вполне городского стиля и непокрытая в городе голова (у себя на малой родине, как и дома за работой, она в платочке). И туфельки легкого современного фасона. То же, с поправкой на более длинные и романтичные фасоны, — у Оли. На Паше — клетчатые рубашки, свободные пиджаки, его друг Митя одет по-спортивному в футболки и курточки. Оба — либо в кепочках, либо простоволосые. Так одеваются современные советские люди (дедушке Гарину, конечно, позволителен и картуз, и карманные часы-луковица).
А теперь — мещане: роскошные туалеты мадам Комаринской как будто взяты из свежайших модных журналов Америки и Франции. Мэрилин Монро могла в те же годы надеть примерно такие же шмотки, правда! Такой же стиляга и ее супруг — твидовый пиджачок, набриолиненный кок и все причитающееся, вплоть до модной песенки Ива Монтана C’est ci bon (именно в 1957 году французский «далекий друг» посетил СССР). И что, делает их яркое и остромодное «тряпье» хорошими советскими людьми, которых возьмут в светлое будущее? Да ни разу!
Все работы хороши — но рабочим лучше
Так что же, разницы между новыми и коренными москвичами — в смысле, разницы социальной, похожей на более поздний казус «лимитчиков» и нынешней ситуации с мигрантами — в пятидесятых так-таки и не было? Нет, все же была — хотя с первого взгляда и незаметная. Начать хоть с того, что москвичи новые устраиваются работать на простые рабочие вакансии — строителями, например, или лифтерами. Или домработницами, кстати — практически все умилительного вида «бабушки в платочках», гуляющие с детьми в фильмах тех лет, это не бабушки, а няни, деревенские пожилые женщины. Или как раз помощницы по хозяйству.
Тогда как даже никуда не годные по своим «советским» качествам москвичи — такие, как Комаринские или там «ответственный съемщик» из коммуналки — имеют «беловоротничковую» работу, иногда даже руководящую. Можно не сомневаться, что и та дородная дама из поезда, которая задержала Пашу, собирая рассыпанные по полу южные фрукты, работает либо домохозяйкой, либо кем-нибудь вроде бухгалтера. И тем благороднее идеальная москвичка Оля, которая после ликвидации своей «шарашкиной конторы» запросто, не унывая, идет на стройку (где ее ждет любимый Митя — но это уже второй вопрос). Это — не вполне заметный, но четкий шаг через классовую границу, так же как и дружба с «понаехавшей» Катей.
Интересно, что рабочие профессии превозносятся там, где другие открыто высмеиваются. Недаром настоящий комсомолец Катя не приживается ни в роли обслуги, ни в роли прислуги, ни даже в «модельном бизнесе». Где, хотя «советская женщина должна смело носить то, что мы внедряем», для Кати фасоны слишком… откровенные. Вырез велик для вчерашней деревенской девчонки.
Что же касается женственности и романтики — тут рабочая профессия не помеха, успокаивают зрителя авторы: вон же, есть крановщица Клава, у которой в ее кабинке башенного крана и зеркальце, и цветочки, и книга романтических стихов. А под комбинезоном — блузочка с рюшечками. Ну, не повезло ей с Пашей, сердцу не прикажешь — но ничего, найдется и ей хороший парень!
Мы с тобой споем
Катя едет в Москву «поступать в театр» — мечтает, выступив в самодеятельности, петь в Театре оперетты. Жизнь вносит свои коррективы — но, даже бродя по городу в раздумьях, девушка смотрит на театральные афиши. Причем театры, афиши которых попали в кадр, ох, непростые.
Вот, например, спектакль «Все мои сыновья» — настоящий раритет нашей театральной истории. Было вот как: написанную в 1947 году пьесу Артура Миллера (один из мужей Мэрилин Монро и вообще автор многих бродвейских хитов) внезапно перевели и поставили в театре имени Вахтангова. В 1948 году, в разгар «борьбы с космополитизмом»! Наши постановщики думали, что эта пьеса хорошо разоблачает «обитель капитала», но тут же раздались критические окрики. Мол, не раскрывает классового уродства буржуазной демократии, а напротив, полна американского буржуазного же патриотизма. Пьесу быстро убрали, а появилась она вновь в репертуаре в 1957 году — это была единственная состоявшаяся постановка знаменитого режиссера Ильи Судакова в театре на Малой Бронной (тогда — Московский драматический театр)…
А вторая афиша — это текущий репертуар Московского театра драмы и комедии (будущего театра на Таганке). Пройдет несколько лет — и Катя с Пашей, которые в финале фильма остаются в Москве, будут, возможно, доставать дефицитные билеты в этот театр на их ровесника — молодого Высоцкого. А через двадцать лет — слушать на катушках его отчаянное: «Нет, ребята, всё не так!» И, может быть — даже ворчать на новую волну «лимиты», приехавшей работать на столичные гиганты-заводы, на стройки и автокомбинаты…
Превращаясь в этом городе из новичков в старожилов, мы практически неизбежно становимся скептиками по отношению к тем, кто вслед за нами (или нашими родителями) приезжает в мегаполис, увеличивая собой плотность, этажность, и привносит все остальные малоприятные, но необходимые для действительно большого города вещи. Эту эмоцию — не самую лучшую, но естественную — невозможно полностью победить. Но, похоже, ее можно максимально сгладить. Если действовать так, как действовали в пятидесятых.
Когда система воспитания и ценностей строилась одна-единственная на весь Союз. Когда «лифты» в виде переполненных поездов работали в обе стороны: из Москвы ведь тоже ехали тысячи и тысячи на Братскую ГЭС и целину. Когда, наконец, приезжающие в Москву и закрепляющиеся в ней — были людьми более высокой, чем в среднем по столице, бытовой культуры. Было на самом деле так — или это только удачная кинопрезентация — большой вопрос, на который не сразу ответят даже остающиеся среди нас люди того поколения. Наверное, было очень по-разному. Но то, что рецепт «счастливого мегаполиса» лежит где-то в этой плоскости, все-таки похоже на правду.