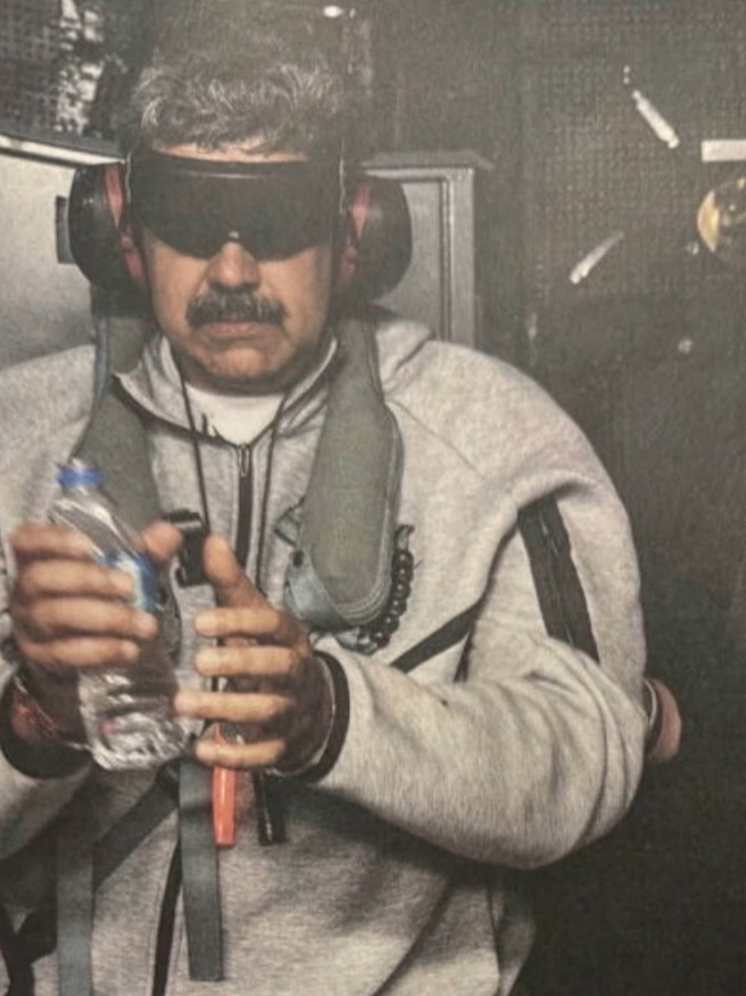Со смертью можно подружиться и договориться
— А вы знаете, что в Интернете Римас — такая компьютерная игра, где Римас — это суровый воин. Там же — ООО «Римас» — страховая компания. Что означает — Римас по-литовски?
— Полное имя мое — Римантас, но отец его как-то обрезал. Римас — так ему было проще. А Римантас означает «победитель», «возвышенный». Нет, воин… мне не очень нравится — он себя любящий. А я очень критикую себя — ты маленький, ты незаметный, не нужен, ты неудачник. Что у меня получилось?
— Это вы-то неудачник? За десять лет, что вы у руля, Вахтанговский театр стал лидером, открыта Новая сцена, в сентябре откроете филиал — Симоновский театр. Восстановлена квартира Вахтангова. Билетов на спектакли Туминаса не достать.
— Но это же натурально, то есть естественно. Это очень просто.
— Если так просто, то, может быть, пропишете для коллег (худруков и директоров) рецепт, как сделать театр успешным — художественно и экономически? И тогда другие театры будут процветать, как Вахтанговский.
— Рецепт один — не думай о себе. Не выдвигай себя, не выражай себя. А ты пойми другого, вчитайся в автора сто раз и вычитывай эти реплики, фразы. Тогда они начнут раскрываться как цветы, подскажут всю жизнь тебе. И как же польется эта жизнь!.. Ты только выбирай.
— Что такого подсказал вам, скажем, Софокл, что теперь на ваш последний спектакль — «Царь Эдип» — даже у перекупщиков билетов не достать?
— Образ отца. Семейная такая история: просто мой отец и моя мама. Конечно, они не грешили, как Эдип, но эта родовая история, которая распалась. А потом распалась республика, страна и демократия. Когда у нас разрушилась семья, как, наверное, у каждого она разрушается (уходят, уезжают, расстаются), читается родовая история. И дальше мы опять не знаем, что делать, потому что демократия, свобода — это тоже система, которая не вечна. И то, чем гордятся на Западе, достижениями демократии, — это еще не все, это лишь процесс. Чем кончится — не знаю. Полагаю, что там введется некое жесткое управление и цензура, чтобы не выродиться. Опять мы должны вернуться к родословному — другого пути нет.
— Знаете, ваш «Эдип» страшен и, я бы сказала, опасен. Из него следует только одно — неотвратимость судьбы, бессмысленность и тщетность трепыхания. Что написано свыше, то неизбежно?
— Нет. Наше желание стать Богом и подчинить себе судьбу — это желание у человека всегда останется. Но мы повторяем и будем повторять одну и ту же ошибку — мы настолько дорожим своей жизнью, что она нам кажется единственно самой важной. Вот отсюда все беды и в государстве. Кто прикасается к власти — тому беда. Человек себя преувеличивает, и сразу он со смертью не согласен. Смерть как бы не для него: другие умирают — не я. Это человеческое заблуждение, которое ведет к трагедии.
— Предлагаете жить по принципу memento more?
— Нет, надо только признать и отодвинуть смерть. С ней можно подружиться и договориться. Театр — это единственная территория, где ты можешь отодвинуть смерть.

Они только заключенные, а я только следователь
— Не могу расстаться с Интернетом: Википедия сообщает: «Римас Туминас — мастер метафор и иронических загадок. В его спектаклях живет необыкновенная искренность, блистательная ироничность, строго выверенный театральный гротеск, приподнятое настроение и актерский кураж». Красиво? Точно?
— Какие метафоры? Я их не изобретаю, не придумываю — они сами приходят и просятся.
— Ночью?
— Чаще да, ночь — это мое время. Я не сплю и не могу. Когда все затихает, тогда хозяйничаю в жизни своей. Я боюсь утра, боюсь проснуться, думаю: спать — не спать? И вставать — это так сложно, потому что опять вхожу в жизнь, в реальность. Это так неинтересно… А ночью… это такие миры! Такое блаженство! Я просто себя начинаю любить: я становлюсь героем жизни, этого дня, героем ночи. Я возвышаюсь над Гоголем, Пушкиным, Чеховым, а утром спускаюсь и поклоняюсь им: я раб жизни, ситуации, авторов.
— И раб актеров?
— И актеров тоже. Но я только одно знаю, что имею права. Утром вспоминаю, что у меня на них права.
— И как вы пользуетесь этими правами?
— Да, потом начинаю пользоваться, и это не очень красиво, потому что ты влезаешь в их душу, в их жизнь. Ты требуешь, как следователь какой-нибудь. Как будто он в тюрьме, а ты через решетку с ним. И спрашиваешь, спрашиваешь...
— А если отказаться от такой привилегии?
— Нет, нет — тут я исполнитель своей профессии. Если бы я был свободен, наверное, отказался бы. Но я не свободен, как и они: они только заключенные, а я только следователь. Обвинитель, но не прокурор. Но в этой неволе я хочу солнца, света. Вот ради луча света не могу отказаться.
— Сегодня в Вахтанговском театре самая сильная молодая часть трупы, это признают многие. По какому принципу вы выбираете актеров? Какие требования к ним предъявляете?
— Важна не только его готовность к профессии. Больше мне импонирует актер, у которого есть дистанция с самим собой. Он не себя видит, а через зеркало жизни смотрит на себя. Он ироничен к себе, играет с собой через эту дистанцию. Это такой способ мышления, а не животная отдача. То есть не переоценивать себя, не недооценивать, а знать, что ты игрушка в жизни. Вот кто понимает, что он ничто, он игрок в жизни, тогда он мой.
— Это видно сразу? Ведь актерская природа так обманчива.
— Сразу. Я беру игроков в жизнь.

Никакой цензуры в России нет!
— Римас, вы противник современных трактовок классики? Высказываетесь очень жестко, даже без оглядки. Почему?
— Если кто-то извратил классику, ее надо восстанавливать. Вот когда Эфрос в Польше посмотрел спектакль «Месяц в деревне» — безобразие чистое для него, вернулся и сказал: «Нет, это же не так, совсем не то» и восстановил гордость литературы, сделал свой гениальный «Месяц в деревне». Вот что значит сопротивление. Это наш долг — иногда идти на сопротивление. Не знаю, прав я, не прав, но нельзя искажать. Сейчас не понимаю: вроде Гоголь не Гоголь, и к нему цитаты подобраны… Не знаю, отчего это? Хотят перекроить, хотят дополнить. Думаю, это все от бессилия, от страха.
— Но все-таки ХХI век на дворе, и ставить классику, как в ХХ, поиск, эксперимент...
— Это не поиск. Ты в литературе ищи, даже не в пьесах. Почему-то я перестал доверять драматургии, начал искать в мировой литературе — она еще не раскрыта так, как драматургия, которая сегодня ясная и понятная. Через литературу надо находить язык театра, и она сама подсказывает, как нам жить дальше. Литература пока еще свободна, не изведана. Думаем, мы Лескова знаем, Платонова, но по сути не знаем. Какие там истории! Какая бездна! Ты возьми Цвейга, Гамсуна, Томаса Манна — что угодно, но зачем перекраивать или переделывать? Я бы ввел цензуру. Жесткую, жесткую!
— Вы не первый раз произносите это. Зачем цензура? Пусть растут все цветы, всем места хватит.
— Мы не понимаем, что такое запреты. Воспринимаем их как запреты — и все! Запреты надо, как это сказать... разъяснить. Никакой цензуры в России нет, но есть вещи, которые не надо трогать. От цензуры что зависит? Не надо государственными бюджетами поддерживать театр, который не думает о судьбе человека. Играть во что-то похожее, приблизительное, мнимое? Нет. Цензура — это путь возвращения к человеку. И повторяю — если не умеешь, не знаешь, слаб — не берись, не ходи, не трогай.
— Значит, вы отрицаете право современного искусства на интерпретацию классики?
— Отрицаю. Интерпретация — это что? Ничего как мышление. Мыслить надо просто современно. Например, «Эдипа» сегодня репетировал. И я актерам сказал: «Вы должны знать, что в Польшу приехало 4000 американских военных». Не надо играть это, а только знать. Знать, что премьер-министр Польши сказал: «Наконец-то мы защищены»: мол, папа приехал или мама, а были они бедные, не защищены. В Литве, наверное, это прозвучит кощунственно, но со стороны, издалека это ну так смешно.
— Какая связь? Зачем артистам, играющим Софокла, эта информация?
— Они не должны это разыгрывать, не удаляться в какие-то века, а понимать сегодняшний день — политический, социальный, культурный. И тогда артист богат, и его можно рассматривать как некую информационную башню. Это человек-башня, который все впитывает, все знает, но остается верным литературе, языку, эпохе. И главное, претензий не имеет ни на что. То есть не так, что «я хочу», — нет, мы выражаем жизнь через другого и через другого познаем себя.

Я вешался, натурально, но неудачно — начал задыхаться
— Вот год назад сожгли мой дом в Литве. И я всем сказал, кто плакал: «Восстановлю». Не думал, правда, что так дорого обойдется, опять в долги залез. Но слово было сказано, и дом опять уже стоит, где мои дочери, внуки. Мне хорошо, но думаю: «А когда я там поживу?» Хочется пожить, косить, смотреть мой огород. Я сажаю все, что возможно, только от картошки отказался — это мука, колорады нападают. А все остальное есть у меня: лук, огурцы. И я так радуюсь. Так вот, когда это все? Сколько осталось?
— Вам, знаете, надо решить — или мировая литература, или картошка?
— А вместе нельзя? Сварить суп из этого? Но я безжалостно прожигаю жизнь, безответственно. Как будто бы она мне должна, и я мщу ей, что она так меня обидела. Я знаю, что она меня не обидела, но почему-то жизнь своим врагом считаю. Враг дал мне жизнь, а я, наверное, не хотел жить. Я с юности знал, что должен умереть. Я вешался, натурально. Но неудачно: начал задыхаться, ногами нашел сук.
— Вы не шутите сейчас?
— Нет. Мне было лет 15. У всех были эти подростковые проблемы. Поскольку я хотел петь, думал, солистом буду, — не вышло. И с музыкой не вышло. А в этом возрасте максимализм зашкаливает: ты должен кем-то быть, стать, вот если прямо сейчас не узнаешь свое предназначение, значит, все, жизнь кончена.
— Все-таки хорошо, что вы сучок нашли. Иначе бы мы тут не сидели, а театр не готовился к вашему дню рождения.
— Я был босиком, ноги сами сук нащупали. У каждого человека, я думаю, есть такой момент в жизни — желание уйти. Но чем больше ты уходишь, тем больше цепляешься за жизнь потом. Вот какие странные перевороты: не хочешь жить, и вдруг так влюбляешься в жизнь. Ищешь ее продолжение в девушке, в женщине. А это не любовь, нет — просто ищешь способ продолжить жизнь. Такое эгоистичное начало.
— По-вашему, любви нет?
— Любви нет! Любовь в себя — это есть! Ты же эгоист, ты же одинок. Ты думаешь, что ты с кем-то, а на самом деле один.
— Простите, но это только красивости, которые так любят режиссеры (сразу Романа Григорьевича Виктюка вспомнила). Неужели мы (вы) ни к кому не привязаны?
— Вот сейчас мой возраст все отрубает, отрезаются желания: с друзьями встречаться не хочется. Организм к смерти готовится.
— И спектакли ставить не хочется?
— Нет, до этого еще дойду. Поехать на юг? Не хочу. Еще что-то — не хочу. Но так прекрасна природа в человеке, она же готовит его ко всему и к смерти тоже. И если ты умираешь с желанием еще (того не сделал, этого), тогда трудно будешь умирать, мучительно.
— Интересный поворот в нашей беседе к юбилею — разговор о готовности к смерти. Тарантино какой-то.
— Вот я решить не могу: сжигать себя или в гроб лечь? Если здесь случится, то, конечно, сжечь и урну в Литву привезти. Но не тащить же тело — затраты большие. А если там, то, наверное, в гробу — рядом все мои, и дешевле.
— Вы говорите так серьезно, а на сцене у вас очень часто смешно.
— Да сама жизнь смешная. Она трепещет, предлагает тебе такую игру, юмор, красоту. А мы ее не видим либо не замечаем. И жизнь превращаем в трагическую ситуацию. Мы всегда представляем себя как мученика, как жертву жизни. И не умеем порадоваться, зная, что ты приглашен в игру жизни. Ты же в игру жизни приглашен, а не жить. Все смешно, все иронично, даже в трагедиях Софокла полно юмора.
— А ваша жизнь?
— Моя жизнь тоже смешная, как анекдот. Но я сделаю здесь все и до конца, чтобы никакая гадость сюда не пришла. Хочу «Фауста» сделать, но кручусь сейчас, думаю — как? Послушай, это же смешная притча, очень прекрасная… Я не представляю, что Фауст сидит с таким серьезным видом, мучается вопросом, а серьезный Мефистофель приходит… Но только в моем возрасте, когда ты на жизнь смотришь иронично, можно так сделать «Фауста».
Я прокормлю, и все в безопасности будут
— Вы человек природы. Тогда спрошу: раз родились в крещенские морозы, вы морозоустойчивы? Любите снег?
— Если отсчитать девять месяцев в обратную сторону, зачат я был в мае, то есть весной. Наверное, где-то в поле. Может, поэтому люблю лето. А снег — украшение моей жизни. Зима... так с небес что-то падает, не дождь все-таки. А лето я люблю. Опять я говорю про сад и огород. В 90-е годы тяжелое было время, я гречку посеял, думал, на всех хватит по мешку — брату, одному, второму, дочкам.
— Вы точно крестьянин. Как в театре оказались с такими наклонностями?
— Я все умею — строгать, пилить, плотничать. У меня сделаны столы, скамейки. Я думал даже в 90-е годы делать и продавать их, выживать как-то надо было. Но оценивал работу свою как «ну грубо». Тогда была эпоха чистоты, красивости, чтобы по-европейски. И я не продал бы, а сейчас — продал бы. Сейчас время этой грубости, несделанности, простоты.
— С вами, Римас, не пропадешь. Может, вы еще и шьете?
— Нет, это мама моя шила. Да, со мной не пропадешь. Ни в коем случае. И прокормлю, и все в безопасности будут. И выращу, и огурцы сделаю, и яблоки сохраню. Я после Нового года зашел в подвал старого дома — мешки с яблоками лежат. Я испытывал яблоки: когда их собрать лучше, в чем хранить, подвесить или положить.
— Как все это совместить — крестьянское, театральное, философское?
— Это одно и то же. Если ты знаешь природу яблока или огурца…
— Театр — это огурец?
— Конечно. То же самое — как огурец. Ты его поливаешь, как репетиции, ходишь, присматриваешься, как растет и вырастает.
— Признайтесь, что сейчас вы играете в интервью?
— Немножко есть, но не до конца. Меня тут сосед спросил: «В этом году будете сеять гречку?» — «Нет!» — «Как жаль, мои пчелы так любили вашу гречку». Хоть бы литр меда принес. Нет, не принес! А его пчелы так любили мою гречку.
— И все-таки не дает мне покоя ваше высказывание, что вы неудачник. Что вы имеете в виду?
— Мне говорят, что я удачлив, но я в это не верю. Я должен сам поверить, что удачник. Но не дай боже, если поверю. А я думаю, что это все случай, как у Чехова в «Дяде Ване» — все случай. Так и у меня: случай, что пришел в Вахтанговский, что таким стал — тоже случай. Но это не жизнь, еще не вся правда. Не поддаваться этому успеху — это самое сложное, это провокация. Надо уменьшить, уменьшить, чуть опустить парус. Иначе ты проскочишь пристань.
Из досье «МК»: за десять лет при руководстве Римаса Туминаса театр им. Евгения Вахтангова выпустил 48 новых спектаклей, провел 119 гастролей в 33 городах России и 54 в 24 странах мира. Получил более 100 всевозможных премий и наград. Введено в эксплуатацию 3 новые сценические площадки. В 5 раз выросли доходы от показа спектаклей, а средняя зарплата - с 29.800 рублей до 103.450 рублей.