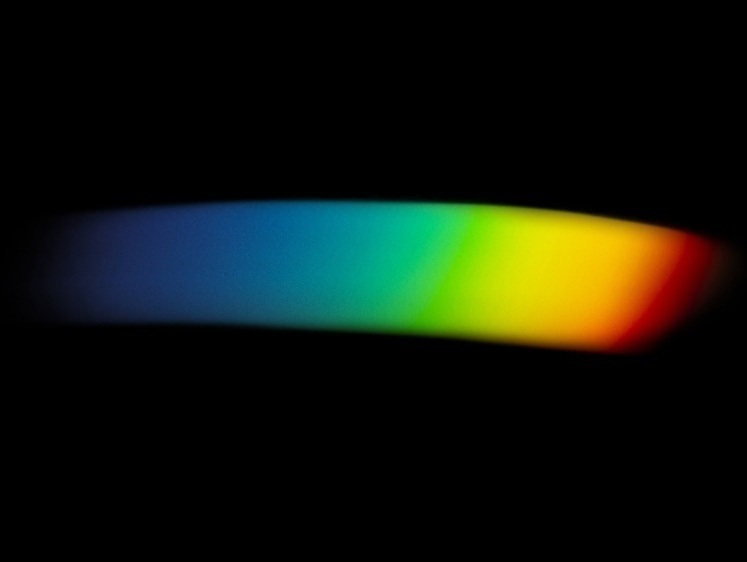Ну, а если речь не о напыщенном тщеславии, а выборе между жизнью и смертью — неужто и среди не включившихся в гонку за высокими стандартами бытия царят и превалируют убогие вещно-материальные соображения?
В учреждении, где он работал, штатное расписание замыкали два грузчика, оба — в отличие от прочих сотрудников, трудившихся умственно, — вкалывали физически: занимались переноской тяжестей. Один, крепкий, небольшого росточка, с низким лбом и черными буйными волосами, был сын старушки-уборщицы, она блюла чистоту в конторских кабинетах и коридорах. Сын походил на мать — фигурой, лицом, и старушка, и сын щеголяли в одинаковых казенных сатиновых халатах.
Возле лифта, которого дожидался вместе с матерью этого грузчика, стал свидетелем разговора. Сослуживец из административно-хозяйственного отдела спросил:
— Тетя Шура, как Михаил?
Старушка закрыла лицо грубой, почти мужской ладонью и заплакала.
— Плохо.
— Ну что ты, — стал утешать спросивший.
— Плохо, плохо, — повторяла она.
Плечи ее вздрагивали. Позже выяснилось: у бедняги — цирроз. Припомнилась всегдашняя нездоровая желтизна кожи Михаила.
Помимо естественного человеческого огорчения он испытал прилив безотчетной вины, задумавшись, сколь трудно растить мальчика одинокой нищей женщине — постоянные лишения, скверные дворовые компании, наверно, плохо учился, болел, недоедал… Беспросветность... Не раздобыть, не купить на крохотный заработок нужных лекарств.
И вот паренек с распадающейся печенью вынужденно надрывался.
Конечно, при самом горячем сочувствии заболевшему, бедняга поглощал не все мысли, хватало собственных забот, поэтому не фиксировал: сколь часто встречает Михаила в коридоре. Если бы тот исчез надолго (или вообще), пожалуй, не заметил бы его отсутствия.
Буквально через месяц, опять у лифта, услышал новый разговор с тетей Шурой. Михаил к этому времени вернулся из больницы, следовало радоваться: обошлось, наладилось, плохое отодвинулось. Тетя Шура осуждающе говорила подруге-вахтерше:
— Рубль ему даю на обед. Так он в привычку взял: с утра идет в диетическую столовую и там этот рубль проедает. Мясо какое-то ему там нравится. А на обед опять денег просит.
— Не давай, — советовала вахтерша.
— Так я и говорю ему: и пятерку в день можно проесть…
Не понять. И самому себе не объяснить: каким законам подчиняются эти люди, их мысли и судьбы, что дороже — здоровье или экономия? До какого предела нищеты (и чудовищной животной тупости, полнейшего равнодушия) надо дойти, чтобы, зная: сын неизлечим, жить ему осталось всего ничего, жалеть деньги, попрекать куском?
Но с тех пор преследовало: не дал, не предложил тете Шуре помощь — в тот день в кармане было пусто. Значит, следовало занять у кого-то, потом расплатился бы, оклад как-никак выше, чем у уборщицы, печень не расширена, лишние грошики у него водились. А ей неоткуда взять...
Делать вовремя
Солнечный день, белое блочное лениво-пустынное в каникулярной спячке здание школы, физкультурный зал, вместивший выставку экспериментального учебного оборудования. Побеседовав с кучкой энтузиастов-изобретателей, обозрел представленные ими образцы, записал данные в блокнот. И заметил: к нему ковыляет фотограф — однорукий, с тросточкой. Этот бесспорный профессионал, ас фотосъемки, проделывал эквилибристические номера: исхитрялся управиться с камерой, отщелкивал кадры (аппарат висел на ремешке на шее), а палочку — прислонял к экспонатам. Представился, рассказал, где печатались снимки.
Они вместе вышли из школы, направились к метро. Фотограф двигался медленно.
— Многие в моем положении лежат, пенсию получают, а я трепыхаюсь, — говорил инвалид. — Конечно, можно лежать. Но тогда жить зачем?
Симпатия к фронтовику (лицо усеяно синими пороховыми точками), к его прекрасной активной жизненной позиции возникала сама собой. Но хотелось нетерпеливо попрощаться и бежать вперед.
— Вдруг твоей статье потребуются иллюстрации, — говорил фотограф. — Позвони, ладно? Чтоб не печатать зря. Дорогая нынче фотобумага. — Было понятно: пленку экономит, живет на гроши. — Или вдруг вообще что-то газете понадобится. Я готов.
Он не позвонил. Статья шла срочно в номер, не до картинок. Фотограф несколько раз напоминал о себе, предлагал темы, но в фотолаборатории ребята отмахивались. Сами были жадные до работы.
А он? Не протянул руку помощи. Потом оправдывал себя: сам в газете на птичьих правах, цеплялся за каждый репортаж, за каждую строку, старался избегать любых просьб, боялся — повлекут ущерб собственным интересам.
Сейчас все бы сделал, чтобы помочь. Но прошлое не вернешь, не вмешаешься. Надо делать вовремя.
Везунчики
Группа журналистов, сопровождавших генсека в его визите за границу, возвращалась домой. Небольшой компанией стояли на площади аэровокзала. Шел треп:
— У них человек сам решает, что хорошо, что нехорошо. У нас право решать предоставлено коллективу. Приучили: коллективу позволено все.
— На Западе за подглядывание притянули бы к суду — нарушение частной жизни. А у нас коллектив зырит в замочную скважину и вмешивается. Выносит вердикты. Личное дело каждого — какую точку зрения исповедовать и чем заниматься вне общества. Нет, до смешного: проводница поезда подсмотрела и настучала солдатику по месту службы, а о роженице отписала ее мужу (солдатик и молодая мать занялись в купе любовью, проводница их застигла).
— А уж быстрота нашего технического прогресса... Телефон начальнику поставили. С памятью. Сорок номеров можно закодировать. Правда, если выключат электричество, память стирается. Японские аппараты такие же, но с батарейками на два часа — на случай отключения энергии. В нашем аппарате отделение для батареек предусмотрено, но ставить их не советуют, текут. И вообще, аппарат пять лет как снят с производства. А поставили-то шефу новенький — из коробки, запечатанный. Накупили впрок, теперь внедряем. Двум начальникам поставили — у одного проработал два часа, у другого сутки… И сгорели.
Отвязное веселье прервалось: мимо зубоскалящих — они издалека его увидели — прошкандыбал калека: тело на увечных ногах раскачивалось из стороны в сторону, ходило ходуном.
Проводили его ужаснувшимися взглядами, каждый, наверное, подумал о том, что все они отчаянные везунчики: не только родились и живут без изъянов, но в придачу получили и возможность праздно базланить, и ездить в синекурные поездки в свите первого человека страны.
Колесница власти
Скользил взглядом по лицам — не всматриваясь, не замечая подробностей, и натолкнулся на слезы — прежние мысли улетучились, давая место новым. Раздирающим.
Собственно, сразу не определишь, что женщина плачет. Но покрасневшие веки, но платочек, но невысказанное страдание на лице… А лицо простое и честное, весь облик честный и строгий. Бедность, конечно: из-под дешевенького зеленоватого платьица выпирали острые ключицы, босоножки неуклюжие. Растерянность, которая не способна победить горе. Прирожденная неприспособленность. И непреклонность — в упрямстве выпуклого лба, в независимой манере держаться...
Какое горе могло ее сразить? Скорее всего, что-то непоправимое. Больница, где грубят врачи и невозможно упросить (не пригрозить или словчить, а хоть как-то устроиться), да и не станет такая просить, попросту не умеет. Другая натура: не подлаживается ни к кому.
Именно по хрупким костям таких прямых и честных катится тяжеловесная колесница власти. Некоторые на эту колесницу вскарабкиваются, повинуясь мании возобладать и превзойти. Смеют ли примостившиеся на колеснице попирать таких, как эта женщина?
Слепец
Намного позже он поймет, что такое безысходность. Стены квартиры, которую будет арендовать, окажутся столь звукопроницаемы, что станет посвящен в малейшие происходящие вокруг события. Однажды услышит: его незрячий сосед закричит на свою жену, тоже слепую: «У, дура бельмоватая!» И, по-видимому, запустит в нее тарелкой. И заплачет навзрыд. И всхлипнет его жена.
Кто виноват, что такая жизнь? Что люди несчастны, грубы, черствы? И не хотят, не умеют измениться...