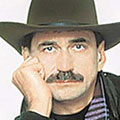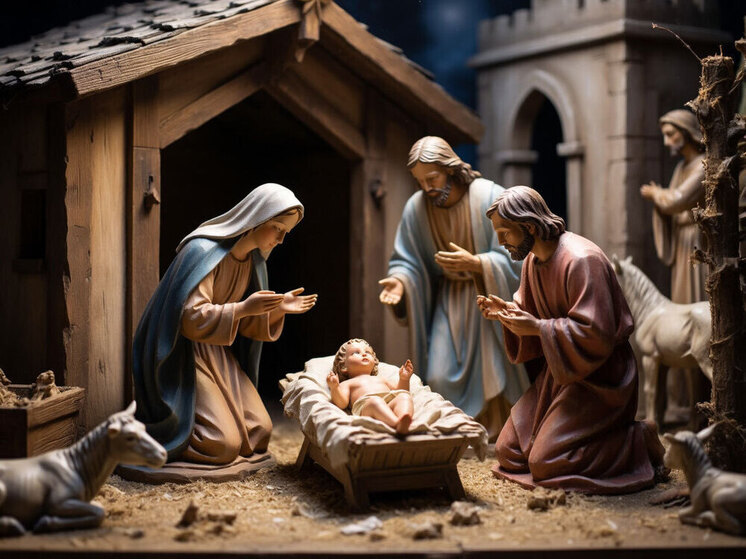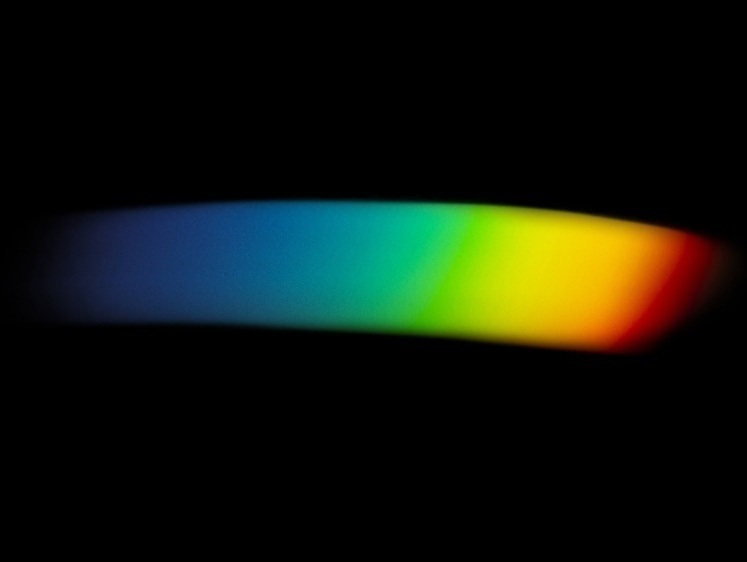Тайная экспедиция
В 1968 году для поступления на вечерний журфак требовалась справка о профильном трудоустройстве, меня приголубили курьером в недавно созданном АПН (Агентстве печати «Новости»), призванном нести миру правду об СССР; оно располагалось на площади Пушкина, в особняке, где теперь Минпечати. В обязанности входило забирать в спецэкспедиции аэропорта «Шереметьево» свежую забугорную прессу и доставлять начальству: дабы убедительно агитировать западные и заокеанские державы, нужно знать вражеские происки доподлинно, а не понаслышке. Для удобства перевозки (и маскировки нетипичного груза?) выдали вместительный портфель. Присылаемые самолетами газеты и журналы были запакованы в большие плотные желтые конверты, таких в России не изготовляли: без клеевой полосы, они необременительно запечатывались мягкой металлической блямбой-кнопкой с длинной раздвоенной ножкой — отогнуть усики не составляло труда. Ни сургучной печати, ни свинцовой пломбы. В укромных уголках (чаще в кабинках туалетов) я аккуратно вскрывал бандероли и читал запретные репортажи и интервью (английским владел неплохо), разглядывал впечатляющие фото. В 1968 году танки стран Варшавского договора вошли в Прагу. Снимки запечатлевали студентов, бросавшихся под гусеницы. А после хоккейного матча сборных СССР и Чехословакии фиксировали появлявшиеся на стенах домов и заборах надписи: «Брежнев 3, Дубчек 4 (без танков)». Разговоры о том, что спорт не связан с политикой, оставим схоластам. Потом восстанавливал девственность вскрытых емкостей и отдавал якобы в неприкосновенном виде по назначению. Однажды — кажется, в канадской газете, безалаберно валявшейся на столе начальника, — я углядел фамилию ее главного редактора: Яхонтов. Глупость моя была беспредельна, я надуто заговорил о том, что, возможно, он мой родственник. Руководитель посмотрел на меня отечески и молвил: «Настоящая его фамилия Финкельштейн».
Поражает наивность (или мудрость?) того огрубленно, приблизительно вершимого бытия. Доверить мальчишке, вчерашнему школьнику, соприкосновение с «подрывной» враждебной информацией? А если бы вздумал ее распространять? Позже, работая в либеральной «Литературной газете», столкнулся с церберской охраной тлетворных полиграфических проникновений в здоровую атмосферу социалистического общества. К источникам, подобным тем, которые некогда возил в камуфляжном портфеле, в «ЛГ» имели право приникать лишь проверенные политические обозреватели-контрпропагандисты. Характеристики рядовых сотрудников, выезжавших за границу даже в соцстрану даже по турпутевке (вояжи за рубеж были строжайше дозированы), содержали непременную строку: «Допуск имеет» или «Допуска не имеет». Речь как раз о допущенности к гостайне, например к так называемому «белому ТАССу» — его широким массам читать не дозволялось. Клеймо «допуска не имеет» свидетельствовало о второсортности гражданина, о том, что ему не полностью доверяют. Распространявшееся на меня (и почти на всех) тавро оскорбляло.
Мудрость стагнации заключалась в верховном понимании: возомни себя некто мессией, проповедником, революционером, начни нести в народ контрабандно добытую пургу «тамошних» откровений — кому сможет поведать разоблачительные эксклюзивы? Маме? Папе? Приятелям, один из которых наверняка стуканет куда следует, на этом конспиративная деятельность будет пресечена...
В те дни не предполагал: окажусь в Братиславе, откуда рукой подать и на машине, и на поезде и до Праги, и до Вены, как-никак связанной с застреленным эрцгерцогом Фердинандом, гибель которого, повлекшая начало Первой мировой войны, осмеяна бравым солдатом Швейком с непередаваемым жизнеутверждающим здоровым цинизмом.
Перешучивание с Чингизом Айтматовым близ Братиславы
«Кому нужны писатели? В самом деле, кому? — думал я на встрече европейских литераторов в курортном городе, на роскошной вилле под Братиславой. — Зачем их собирать, потчевать обедами?»
После раута, устроенного мэром этого курортного городка (опять вино и сладкие пироги), участников попросили оставить записи в книге почетных гостей. Мой сосед по столу, восьмидесятилетний переводчик и поэт из Великобритании Эвальд Озерс, вздохнул:
— Ничего не бывает даром.
Я спросил:
— О чем вы?
Он улыбнулся печально:
— Впрочем, это не столь большая плата…
Каждую свободную минуту Эвальд и чешская переводчица Иванна Боздечёва уединялись то на скамеечке в парке, то за столиком в кафе. И переводили, обсуждали, варьировали каждую строчку современной ирландской поэтессы. Понятно, зачем они приехали на ассамблею: работать в тиши, на природе. Но кому и зачем понадобилось их приглашать?
Эвальд — родом из Словакии, перед началом Второй мировой войны успел бежать в Лондон. По профессии химик; когда в лаборатории, где трудился после окончания университета, собрались одни лишь нацисты, понял: ждать нечего.
— Вовремя, — похвалил я его.
Он задумался.
— Мой брат и моя мать загибли... — почему-то именно это слово поразило меня.
Зачем приехал на эту конференцию Чингиз Айтматов? После выступления в дискуссии (тема: предназначение писателя) австрийца Виплингера присутствовавшие наградили оратора аплодисментами, а Чингиз Торекулович не мог сдержать раздражения. Шепнул мне:
— Что особенного он сказал? Что-то отвлеченное, чего и понять-то нельзя!
Я успокоил Айтматова:
— Нас волнуют практические вопросы, а у них тут бытовых проблем нет. Живут благополучно… Витают в эмпиреях…
Я многажды урезонивал Чингиза Торекуловича на протяжении симпозиума. Повезли в старинный замок Беков, оттуда — в ближайшую деревушку, где угощали сливовицей и яблоковицей. К Айтматову пристал корреспондент:
— Почему нет ваших новых книг?
Айтматов нахмурился:
— Пришли демократы к власти и не печатают.
И покосился на меня. Я сделал вид, что не слышал. Но он решил удостовериться, стал допытываться. Я, поскольку выпил изрядно, не сдержался:
— Вы мировая величина. Не лезьте в политику. Зачем вам?
— Я и не лезу, — обиженно ответил он. — Но ведь не печатают.
— Вас столько печатали! — сказал я.
Держался Айтматов крайне неуверенно. Это бросалось в глаза. Когда в завершение конгресса одаривали участников памятными медалями Кирилла и Мефодия, принялся дергать за рукав председателя заседания, вручавшего награды. Чтобы ему, Айтматову, дали медаль последнему. Чтобы он, Айтматов, мог завершить церемонию торжественной тронной речью.
Смешное желание казаться классиком для того, кто воистину велик.
При вручении произошел забавный эпизод. Настала моя очередь получать медаль, я выслушивал лестные о себе слова, и тут Айтматов — то ли простудившийся, то ли испытавший приступ аллергии — зачихался, стал спешно покидать зал. Я его окликнул:
— Чингиз Торекулович! Хочу, чтобы вы присутствовали!
Но он вышел.
Когда медаль вручали ему, я деланно, притворно, картинно, напоказ закашлялся и тоже направился к дверям. Присутствовавшие разразились хохотом. Они потом сказали, Айтматов бросился меня догонять, но я уже поднялся в свой номер. Я привез альбом с видами Москвы, взял его, вернулся в зал и как раз успел к завершению речи Айтматова. Драгослав Махала, председатель праздничного мероприятия, дал отмашку внести шампанское в богемских бокалах, мерцали свечи… Но я попросил слова. — Мы с Чингизом Торекуловичем вас намеренно разыграли, — сказал я. — На протяжении вечера мы незаметно от вас перемигивались. Вручение наград — полная неожиданность, не можем не отозваться ответным символическим жестом. Автор «Белого парохода» и «Буранного полустанка», якобы закашлявшись, вышел, чтобы позже дать возможность выйти из зала мне. Чтобы я принес вот этот альбом.
Все рассмеялись. Айтматов предложил обменяться полученными медалями:
— Дадим пример мирного решения конфликтных недоразумений.
Все произвели обмен друг с другом.
Шофер Александра Дубчека
За кулисами того писательского толковища произошло много запомнившихся встреч. С дипломатом нашего посольства в Братиславе, моим товарищем по футбольным баталиям в Москве, в спорткомплексе «Олимпийский», Виктором Мичуриным и словацким поэтом Резником засиделись в пивной.
Речь зашла о шофере, который вез Александра Дубчека, когда случилась авария, после нее Дубчек не воспрянул. А шофер — по фамилии Резник — отделался легким испугом.
— Просто хочу позвонить, — говорил Резник-поэт. — Сказать: моя фамилия Резник. И твоя Резник. Расскажи правду. Не для печати. Чтобы я записал для будущего. Что произошло?
Было сделано заявление: причина — неисправность машины.
— Концерн БМВ предложил провести расследование. Они уверены в качестве своей продукции. Это предложение замяли. Так что же случилось? Может, выстрелили в колесо из помпового ружья? Дубчек был жив, просил, чтобы его перевели в другой госпиталь. Не стали. Пропала папка с важными документами. К нему приезжал, навещал его в больнице Гавел — но уже после президентских выборов...
Тут и осенило: вот для чего нужны писатели. Чтобы изредка, но прицельно задавать взыскующие вечные вопросы, возможно безответные.