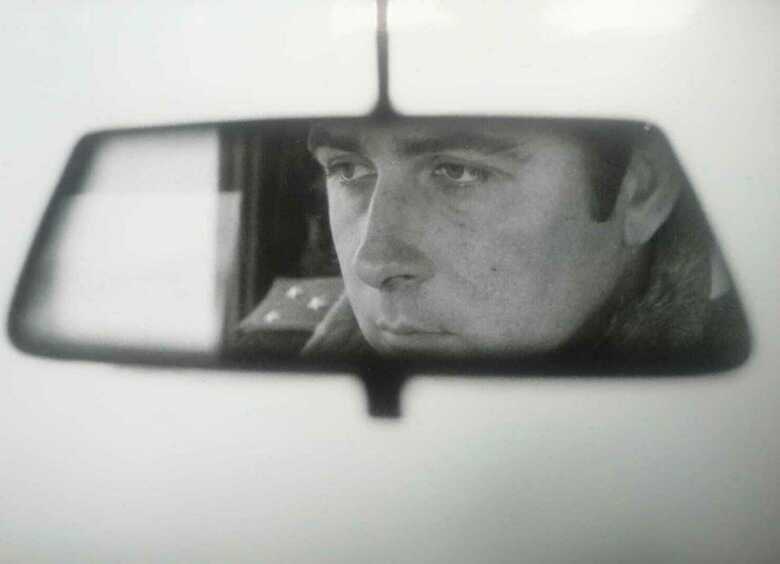Нет, что ни говори, а в Москве есть проклятые места, куда нормальному человеку ходить не надо. Одно из таких мест прописано по адресу: Малая Бронная, дом 4 — Театр на Малой Бронной. Сегодня здесь в тиши старой улицы, подпертой кривенькими переулками, разворачиваются драматические события. В центре скандала — режиссер с имиджем скандалиста Андрей Житинкин. Но в этой истории он не герой, а скорее жертва. И что примечательно — не первая и, увы, не последняя.
“МК” провел свое расследование и обнаружил удивительные вещи, сделал свои открытия.
Если спросить краеведа, чем знаменита Малая Бронная, он ответит, что: а) здесь располагался некогда знаменитый Еврейский камерный театр Соломона Михоэлса; и б) здесь 17 лет работал великий режиссер Анатолий Эфрос. Правда, искушенный театрал благостную информацию может подпортить несимпатичной деталью — Малая Бронная знаменита еще и тем, что здесь никогда не задерживались главные режиссеры. Вот официальная статистика:
Евгений Лазарев — 1984—1987 годы.
Владимир Портнов — 1988—1991 годы.
Сергей Женовач — 1996—1998 годы.
Андрей Житинкин — 2001 год.
Срок контракта заканчивается в феврале 2003-го.
То, что труппе не везет с главными, так же бесспорно, как и то, что и главным не везет с труппой: начиная с 1984 года больше трех лет в кресле лидера никто не усидел. Главных меняли как перчатки. И, как выяснилось, меняли по одному и тому же сценарию. Но лучше все по порядку. А порядок, даже людоедского свойства, следует поискать в истории.
История №1. Александра Дунаева
Александр Дунаев служил главрежем в Театре на Малой Бронной с 1968 года. Имел исключительную для советских времен анкету — русский, партийный, крепкий ремесленник и, говорят, мягкий и приличный человек. Для главного он имел один серьезный изъян — был лишен честолюбивых властных амбиций, не позволявших остаться в истории театра тираном и диктатором. Но именно за отсутствие начальственных замашек следует поклониться в пояс светлой памяти этого человека — 17 лет рядом с ним был простой очередной режиссер Анатолий Эфрос, который и определял художественную политику театра, принесшую славу Бронной и его артистам. Его мировая известность делает любые комментарии излишними.
Если серьезно вдуматься, то это был нонсенс на театральной территории: главного режиссера Бронной знало только столичное начальство, а очередного — весь мир. И никогда “главный” Дунаев своей начальственной тенью не наезжал на “очередника” Эфроса.
Ольга Яковлева была ведущей актрисой Театра на Малой Бронной, проработала здесь 17 лет. Она долго хранила молчание.
— Все изменилось с приходом в театр нового директора — Ильи Когана. Он занял позицию “разделяй и властвуй”. До его прихода в театре было все спокойно и тихо. Никакой зависти или ревности у Дунаева к Эфросу не было — вместе они работали нормально.
И вдруг началось.
— Что именно и с чего началось?
— Начались собрания — пора менять главного.
— Что инкриминировали Дунаеву — этому крепкому режиссеру, довольно-таки тихому человеку?
— Началась нездоровая возня, и Александра Леонидовича обвиняли в чем угодно. Например, что он поехал в Югославию ставить “Человека с ружьем” Погодина, а сделал там “Утиную охоту” Вампилова — по тем временам очень опасную пьесу. Что не заплатил партийные взносы с какой-то там суммы. Что во время войны служил в СМЕРШе. И до смешного — что он чуть ли не унес из театра телевизор.
— Бред какой-то.
— Нет, не бред. У меня было ощущение, что это спектакль 37-го года. Кошмар, я думала, что такого не бывает.
Добавлю, что на дворе был конец 70-х.
— Ольга Михайловна, а вы не могли бы вспомнить конкретно какое-то из собраний.
— Помню одно. В президиуме сидели ученики Анатолия Васильевича — Валентин Смирнитский (он был профсоюзным лидером), Виктор Лакирев — секретарь парторганизации. А вы знаете, какая началась бурная партийная жизнь в театре с приходом нового директора? Нам, например, зачитывали передовицы из газеты “Правда”... Вот и мы спрашивали: “Зачем?” А Анатолию Васильевичу, когда он собирался в Швецию, на симпозиум по Станиславскому, парторганизация не подписала характеристику. В результате он никуда не поехал.
— Как вели себя актеры?
— Так и вели. Не помню, выступал ли Дуров, но выступали Грачев, Антоненко-Луконина. Броневой что-то говорил. Каневский молчал, наблюдал. А Волков не приходил вообще.
Так вот собрание. Президиум на сцене, Дунаев, как подсудимый, сидел весь багровый. Эфрос ходил по проходу и как мог пытался разрушить это собрание. “Безобразие, — говорил он. — Одумайтесь! Что вы делаете?”. И все это творилось руками артистов. Они люди эмоциональные, их надо вести. И их вели. Первой скрипкой был директор.
Из досье “МК”.
Илья Коган работает на Малой Бронной с 1978 года. Юрист по образованию. До Малой Бронной был директором Московского театра юного зрителя, театра на Таганке. Авторитетная фигура в директорском корпусе театральной Москвы. С ним всегда считалось столичное начальство. Его не трогали даже тогда, когда зал Малой Бронной не собирал зрителей. Одни характеризуют его как опытного дипломата, другие — как опытного интригана.
На самом деле Илья Коган — хозяйственник со стажем — типичный представитель государственной антрепризы. То есть имеет всю полноту власти в театре: за ним как право приглашения на службу, так и расторжение контракта. Работодатель, от которого в театре все зависит. Возраст — 82 года.
Все-таки Бронная добилась своего, и главрежа Дунаева перевели в театр “Эрмитаж”. Потом он попал в больницу и вскоре умер. Что интересно, на похороны Дунаева пришла вся труппа.
Олег Вавилов к тому времени только поступил в труппу.
— Я был молодой. Так и не понимаю до сих пор, почему решили убрать Дунаева. Это был какой-то бред. Еще помню свои первые гастроли, где я такого об Эфросе наслушался от коллег...
Таким образом, на Малой Бронной пролилась первая кровь, и, как показала жизнь, ее запах время от времени будет возбуждать мастеров сцены на протяжении 20 лет.
История №2. Анатолия Эфроса
— Я думаю, что история с Дунаевым косвенно касалась и Эфроса, - продолжает Ольга Яковлева. — Но его так открыто трогать боялись — все-таки у него был международный авторитет. Эфрос проработал без Дунаева чуть меньше года, он все понимал. В одном из писем он мне писал: “Неужели вы не понимаете, что они теперь нам работать не дадут”.
— Что он имел в виду?
— Только одно — без Дунаева они будут руководить и указывать: что делать, на кого ставить.
— Но разве они не понимали, что рубят сук, на котором сидят: именно Анатолий Эфрос принес славу этому театру, успех актерам.
— Не понимали. Вы понимаете, они были развращены успехом, развращены отношением к себе, уважительным тоном. Главный мотив — зависть, ревность актерская. Анатолий Васильевич — юридически очередной режиссер Бронной, очень много работал на стороне — ставил во МХАТе, в Театре Моссовета, на телевидении, в США, в Японии. Артисты не могли перенести этого — папа не должен ходить на сторону.
Также не могли перенести, что Эфрос приглашал в спектакли артистов из других театров — Даля, Миронова, Любшина, Петренко... Так В “Наполеоне” играл Михаил Ульянов. И ни один из актеров Бронной не пришел его поздравить. Это все были амбиции, непомерные амбиции. Артисты говорили: “Мы тоже достояние”. Достояние чего? Что-то потом этого достояния не было ни видно, ни слышно.
Так, бойчее всех выступал народный артист Соколовский, которого теперь вряд ли кто вспомнит.
— Авторитет Эфроса, я думаю, не позволял актерам хамски обращаться с ним, как, например, с Дунаевым.
— С одной стороны, да. Правда, могли со сцены демонстративно сказать в зал, где он сидел: “Говорите громче”. Или: “Я вам не Карузо”. С другой — дирекция выделила ему крохотный кабинет, да какой там кабинет, комнату рядом с парткомом на четвертом этаже. Ему, сердечнику, было тяжело подниматься каждый раз на четвертый этаж. Рядом с парткомом он наслушался про себя всякой антисемитчины.
— Например?
— Не хочу говорить. Не хочу вспоминать.
В 1984 году Анатолия Эфроса перевели главным режиссером в Театр на Таганке, откуда, в свою очередь, выгнали Юрия Любимова.
Владимир Дашкевич, композитор: Когда он уходил на Таганку, то сказал мне: “Знаешь, почему я буду ставить спектакль “На дне”?” И сам ответил: “На Бронной я чувствовал себя на дне, и артисты на Таганке без Любимова, чувствовали себя так же”.
Лучше бы художник не ходил на Таганку, где прошел свои круги ада.
Отступление от истории Эфроса. Не лирическое
Каждый раз я себя спрашиваю: неужели артисты, которых так любит публика за обаяние и мастерство красиво притворяться на сцене и в жизни, оказываются подчас чудовищами? Может, они людоеды? Если верить другому великому режиссеру — Андрею Тарковскому, — артисты не люди. Если верить Леониду Филатову — сукины дети. Друг друга могут назвать предателями, хотя высшие проявления дружбы и преданности среди актеров хорошо известны: например, Борис Андреев — Петр Олейников, Мария Бабанова — Нина Тер-Осипян...
Но как начинаешь копаться — все всплывает с частицей “не”: недоумение, ненависть, некрасивые истории... Во всяком случае, все это ждало Анатолия Эфроса на Таганке. Как и на Бронной, мастеру отвели крохотную комнатку, которая совсем не отапливалась, и он, сердечник, сидел, обмотавшись шарфом, в дубленке... А дубленку потом резали и оставляли записки антисемитского характера.
Это сейчас все, работавшие с ним в разное время и в разных местах, с гордостью пишут в резюме: работал с Эфросом. Потому что Эфрос — это выгодный бренд, который проявляет в людях театра синдром жужелицы, которая “со сладостной радостью думает про ангела: “Мы летаем”.
История №3. Сергея Женовача
Достаточно тихо “отмотали” свои сроки в качестве главных Бронной артист Евгений Лазарев и режиссер Владимир Портнов. Первый сейчас все больше работает в Штатах — ставит, преподает. Портнов вскоре после ухода с Бронной с концами уехал в Израиль.
В 1996 году главным в театр поступил художник из поколения новых, не нюхавший пороха совка, — Сергей Женовач. Тихий, интеллигентный и талантливый режиссер принес в театр Эфроса свою эстетику литературного театра. На сцене появились Достоевский, Тургенев, Гоголь в фольклорном оформлении... И все бы, казалось, хорошо, но снова началась возня. Женовача объявили слишком элитарным, неспособным привести в театр массового зрителя.
Лев Дуров, ведущий актер театра, глава клана Дуровых — жена, дочь и зять служат на сцене Бронной:
— Да никто не съедал режиссеров. Они все были несостоятельными. Приходили, обещали, но обещаний не выполняли. Женовач, например, работал только со своими, требовал бессрочного контракта худрука. А это только в Туркменистане можно быть бессрочным президентом. И Житинкин не выполнил ни одного обещания. Очень серьезное, трагическое положение театра. На Руси никогда не было счастья.
Я связалась с Сергеем Женовачом, который теперь работает очередным в Малом театре и выпустил в прошлом сезоне очень удачное “Горе от ума”.
— Это неправда, что я требовал бессрочного контракта. У меня был контракт на два года. Речь шла о том, чтобы продлить его еще на один год. Но, когда я понял, что не нужен, я ушел.
— Сергей, как вы можете прокомментировать то, что происходит в Театре на Малой Бронной?
— Даже не знаю, как комментировать. Я ушел, потому что тот театр, который хотел строить я, не нравился директору. А когда я не смог заниматься тем, чем хотел, то повернулся и ушел. Если интересы расходятся, насильно мил не будешь.
Так Малая Бронная лишилась интеллигентного Женовача, которого в 2001 году сменил другой интеллигент, но с имиджем театрального скандалиста — Андрей Житинкин.
История №4. Андрея Житинкина
Сейчас на Бронной происходит что-то странное: труппа гудит о каких-то письмах, которые ходят по рукам. Кто их подписал не подписал — скрывается, что наводит на мысль об анонимках.
— Письма ко мне действительно поступают — частные и коллективные, — говорит директор Малой Бронной Илья Коган.
— Смысл один — просят не продлевать контракт с ним как с главным режиссером. Людям не нравится его отношение к труппе: опирается не на своих артистов, а на приглашенных. Не сохраняет традиции театра Эфроса, . Я считаю его одаренным человеком, но не в качестве главного режиссера.
Ну вот все и ясно — есть мнение основного работодателя, а какие-то там письма, организованные сверху или снизу, уже роли не играют. И ясно, что труппу старым проверенным способом пытаются расколоть, всех перессорить.
Мастер сценического эпатажа и откровенных постановок явно не ожидал, что попадет в совковый переплет.
— Я в недоумении — все это началось за два месяца до окончания моего контракта. Значит, полгода назад все, что я делал, устраивало?
Если оставить в стороне обсуждение художественной ценности спектаклей Житинкина, то можно утверждать, что он выполнил то, что требовали от Женовача, — вернул на Бронную массового зрителя. Билеты на “Нижинского” или “Портрет Дориана Грея” театр продает по 500 рублей. Он сделал пять постановок.
— Я выполнил все, что обещал, — Моя позиция проста — я не занимаюсь интригами. Я репетирую серьезный спектакль “Анна Каренина”.
История №5. Анны Карениной
Ох уж эта дама. Порочная Анна не давала спокойно спать не только своему супругу, но и обитателям Малой Бронной, которые на полном серьезе мучаются вопросом, ширялась ли Каренина, сидела ли она на колесах или просто нюхала кокаин.
— Ну какая она наркоманка? — возмущается Лев Дуров. — Пусть будет недобор в кассе, но пусть будет серьезный разговор со зрителем.
Не удивлюсь, если на старушку заведут персональное дело, как и на интерпретатора ее жизни на сцене. Для такого случая неплохо было бы заручиться экспертной оценкой специалистов мировой литературы. Пока этого не произошло, обращаю внимание борцов за чистоту русской классики на саму классику.
Итак, часть 7-я, глава 26-я романа “Анна Каренина” графа Льва Толстого: “Когда она налила себе обычный прием опиума и подумала о том, что стоило только выпить всю склянку, чтобы умереть, ей показалось это так легко и просто, что она опять с наслаждением стала думать о том, как он будет мучиться, раскаиваться и любить ее память, когда уже будет поздно”.
У Житинкина может получиться замечательный спектакль, в духе его прежних работ за пределами Бронной, а может случиться провал. Но, похоже, не этим сейчас живет Бронная.
Олег Вавилов:
— Я на грани того, чтобы положить заявление и уйти из театра. Не хочу верить, что все идет от директора, но то, что происходит в театре , — это отвратительно. По углам втихаря подписываются какие-то письма, а не работают. Когда у нас был режиссер Сергей Женовач, он мне сказал сразу: “Я вас не вижу”. Я ответил: “Я вас тоже”. И мы разошлись: он остался на Бронной, а я ушел к Розовскому, Еланской, оставаясь при этом в спектаклях Дурова. Но никаких писем не писал и писать не собирался. Когда два года назад Житинкин пришел со своим репертуаром, труппа его приняла. И вдруг — эти письма с протестом ...! Дошло до того, что одной актрисе, за то что она отказалась подписать письмо, предложили чуть ли не уйти из театра.
Ей-богу, надоело копаться в природе русского театра, актерской психологии и директорского произвола. Ясно, что у труппы во главе с дирекцией отказали тормоза. Она не видит, что ведет себя, как прыщавая бесприданница, с капризами копающаяся в женихах. Дело поедания режиссеров на Бронной, похоже, поставлено на поток и независимо от века и от того, что мы строим — развитой социализм или дикий капитализм.
— Ольга Михайловна, вы 17 лет проработали в театре. Знаете труппу. Как вы можете охарактеризовать ее и то, что сейчас там происходит?
— Наверное, все то же самое и происходит. Если человек в детстве жил хорошо, он вырастет беззлобным и независтливым. Но это не касается актерства. Актер, если он в прошлом имел успех, то ему нужен не меньший, а чуть ли не больший, и каждый день. Сейчас артисты на Малой Бронной не подозревают, что ищут прошлого. Они были знакомы с художником, которого сами же низвергли. Они — в поисках детства. А это невозможно.
Как не может любой режиссер все равно с какой фамилией за короткий срок, отведенный работодателем, сформировать сильную труппу и создать лицо театра.