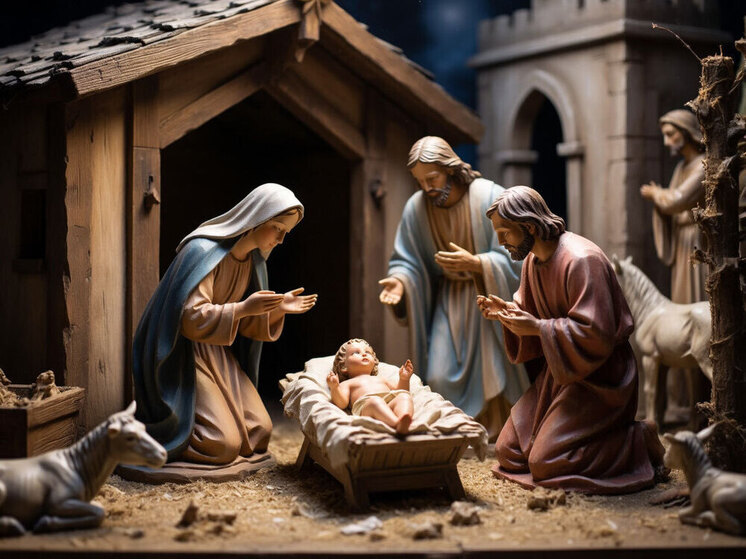Портрет на фоне пейзажа
Художник Гуго МАНИЗЕР: “Отец— скульптор так и сказал мне: “ Хочешь рисовать — рисуй”
“Я тебя встречу у метро — сама ни за что не найдешь”. От недальнего метро жена художника Гуго Матвеевича Манизера — Нина — везет меня буквально минут пять в глубь квартала только ей одной известными тропами. Действительно — я бы тут крутилась... И вот мы у цели. За забором в окружении больших деревьев и соседних типовых многоэтажек особняком стоит большой дом со стеклянной крышей, в котором уже более пятидесяти лет живет династия скульпторов и художников Манизеров. Гуго Матвеевич Манизер, известный московский пейзажист, профессор кафедры рисунка Суриковского института и сын знаменитых советских скульпторов Матвея Манизера и Елены Янсон-Манизер, в эти дни отмечает 75-летие. Повод для общения более чем значительный. Но беседа наша начинается не с творчества Гуго Матвеевича, а с экскурсии по саду, не менее удивительному, чем сам художник. В саду растут редких видов деревья — в мой приезд они были пронизаны лучами солнца. Лучи упирались в великолепные скульптуры, стоящие на постаментах.
— Вот эта, видите, — Гуго Матвеевич подводит меня к фигуре балерины, стоящей под раскидистым деревом с очень интересной листвой и трудно произносимым названием гинкго, — мамина скульптура. Она очень увлекалась Улановой и вообще балетом. Скульптура стояла в фойе Большого театра, а как оказалась здесь — честно говоря, не помню. Помню только, что, когда перевозили сюда, ее сломали — прямо в лодыжках. Потом пришлось ступни приваривать.
— Кажется, точно такая же “Уланова” стоит в Стокгольме?
— Уланова знала, что у мамы была такая работа, и как-то (по-моему, перед каким-то ее юбилеем) она приехала сюда со знакомой шведкой, видимо, очень высокопоставленной. И через некоторое время из Швеции пришло письмо, что они хотели бы видеть скульптуру Улановой в стокгольмском музее балета. Ну что ж: сделали бронзовую копию и им отправили.
— Дом у вас интересный. Насколько понимаю, строил его ваш отец...
— Да, его построили в 1951 году по проекту отца и на его же деньги. А вообще в Москву мы попали в 1943-м — из эвакуации: мы же ленинградцы. Во время войны нас, ребят (у меня еще были, к сожалению, теперь уже умершие брат и сестра) и маму, эвакуировали в Ярославскую область. Потом некоторое время мы жили в Сибири, под Омском. Отца же сразу вызвали в Москву, поскольку он был зампредседателя оргкомитета по созданию Союза художников СССР. Он оставил мастерскую свою (а работал он, кстати, в мастерской Опекушина — автора памятника Пушкину в Москве) и уехал из Ленинграда последним поездом, который по дороге попал под бомбежку. Отец, можно сказать, уцелел чудом: с ним в купе ехал капитан I ранга, который тут же скомандовал: “Лежать!”. Отец и лег, а все, кто в панике побежал по проходу, были либо ранены, либо убиты. Он даже сохранил номерок от своего места, пробитый осколком.
Жизнь в эвакуации отложилась в памяти Гуго Матвеевича не хуже иного пейзажа:
— Мы, дети, в четырех стенах не сидели — работали на поле, пропалывали цикорий, из которого потом в Ростове Великом делали кофейный суррогат. Ох и колючий этот цикорий был! Обидно, конечно, что война нашу привычную жизнь изменила — ведь в Ленинграде мы всерьез занимались музыкой, скрипкой.
— Родители, конечно, пытались воспитывать вас разносторонне?
— Да, у нас была очень музыкальная семья. Нас заставляли заниматься музыкой. А что касается изобразительного искусства, то, как ни странно, давления никакого не было. Может быть, и зря. Я часто вожу в отцовскую мастерскую своих студентов и показываю им рисунок, сделанный отцом в десятилетнем возрасте. Не верят. Настолько выполнено профессионально. Раньше детям даже в обычной школе на уроках рисования ставили руку, можно сказать, муштровали, доводили технику до автоматизма. Сейчас этого нет — развивают другие таланты, фантазию. Но не технику.
Наконец заходим в дом, перевидавший за полвека в своих стенах множество знаменитостей. Дом, который выстроил скульптор Матвей Манизер, домом в традиционном понимании назвать можно с натяжкой. Обычный человек наверняка сказал бы: “Как тут люди живут!”. В одной части дома живет семья покойного брата Гуго Матвеевича — Отто, который тоже, как и отец, был скульптором. Теперь в дедушкиной мастерской работает его сын Петр, тоже скульптор. У Гуго Манизера жилище — сплошная мастерская. В самой большой комнате (бывшей маминой мастерской) творит Гуго Матвеевич. Здесь же обедают и принимают гостей. Еще одна мастерская расположена наверху — там царство его жены Нины Пуляхиной, художника-модельера.
Атмосфера творчества чувствуется в каждом углу, и кажется, воздух пропитан ароматом красок, старого дерева, хвойных масел и остановившегося времени. За большим окном качают ветвями деревья. И тишина... Не слышно шума городского, как ни прислушивайся.
Начинаем перечислять родословную, и получаются потрясающие цифры: на четыре поколения Манизеров приходится 2 живописца, 1 художник-модельер, график и целых 4 скульптора. Причем все они очень известны в художественном мире. Единственная дочь Гуго и Нины — Оля — одновременно модель и художник-график. Правда, сейчас она исполняет самую главную роль — мамы. Посреди расставленных прямо на полу картин, мольбертов и холстов красуется игрушечный скутер.
— А этой чей?
— Оля родила нам внука. Так случилось, что замуж она вышла за швейцарца, а живет в Лондоне. Вот на Пасху к нам приезжали. Внуку Саше уже два года, гонял тут на скутере, как прирожденный Шумахер.
Смотрю сквозь оконные стекла на верхушки окружающих многоэтажек:
— Интересно, как к вам относятся соседи — вы же здесь как на сцене?
— Да в общем-то особо не докучают. Даже охраняют иногда. Не так давно позвонила женщина из соседнего дома: “У вашего забора стоит очень подозрительная машина”. Но мы как-то и не волнуемся — все равно все ценные произведения давно в музеях, а скульптуры Матвея Генриховича вообще на площадях. А потом мы к этому окружению привыкли — когда дом строился, здесь вокруг стояли маленькие деревянные домишки. Это теперь все обросло.
— А откуда у вас такая интересная фамилия — Манизер?
— Наша династия пошла с деда, художника Генриха Матвеевича Манизера. Насколько мне известно, это фамилия его матери, немки по национальности. А кто его отцом был, неизвестно — отчество у него, как я понимаю, условное. Мать его вскоре после родов умерла, и дед воспитывался у тетки. Рисовать он начал рано и сначала поступил в Московское училище ваяния и зодчества. Очень был способный — есть даже положительный отзыв о его дипломной работе самого Стасова. У дедушки вообще была интересная судьба. Продолжил он свое обучение уже в Санкт-Петербурге, в Академии художеств, а сразу по ее окончании уехал с нашими войсками освобождать Болгарию от турецкого ига.
Сто лет спустя я со студентами оказался в Болгарии. И разыскал следы своего деда. Оказалось, что несколько его картин висит в тамошних музеях. А мы-то думали, что они исчезли, — как те, которые, по словам отца, висели до революции в Зимнем дворце.
Дедушка Манизер был плодовитым человеком. Родил десять детей, двое из которых попали в энциклопедии. Старший из сыновей — Генрих Генрихович — стал этнографом. В начале прошлого века он одним из первых русских побывал в бассейне Амазонки. Тоже обладал необычайными способностями: знал почти все европейские языки и прекрасно рисовал. В детстве Гуго Матвеевич видел множество рисунков, сделанных дядей во время амазонской экспедиции. Потом отец передал их в Этнографический музей. А дядя, вернувшись из Латинской Америки прямо к началу Первой мировой войны, отправился на фронт и вскоре умер в Сербии от сыпного тифа, будучи еще совсем молодым. Еще один дядя — Марк Генрихович — был виолончелистом.
— Это удивительно — столько творческих людей в одной семье!
— Как-то здесь в гостях у отца был очень видный американец. Он не мог поверить, что все в нашей семье имели и имеют отношение к искусству.
— Гуго Матвеевич, вы с Ниной все-таки работаете в разных жанрах: вы — живописец, она — модельер. Но я не могу понять, как рядом друг с другом работали ваши родители-скульпторы? Наверное, ругались постоянно...
— Никогда. Они очень были воспитанные люди и уважали творчество друг друга. Я вот рассказывал, как мы в эвакуации жили. Но не упомянул, как мама доставала глину на кирпичных заводах и лепила маленькие фигурки. Даже там, почти в нечеловеческих условиях, она не переставала работать. Помню, даже в выставке участвовала во время войны — вырезала из дерева две скульптуры “Встреча” и “Прощание”. Я просто хочу сказать, что есть две категории художников. Вот я лично знаю нескольких таких, которые работают только по заказу. А есть те, кто не может прожить без творчества ни секунды. Мои родители были из этой категории. Уже будучи больной, мама в любом состоянии добиралась до рабочего стола и лепила. А по отцу так просто сверяли часы. Еще когда мы сразу после войны жили в бараке в Петровско-Разумовском проезде, отец каждый день шел в мастерскую на Масловку, коллеги, увидев его, знали, что сейчас 9 часов утра — до такой степени он был организован и пунктуален.
— Ваши родители оставили после себя огромное скульптурное наследие...
— Отец, конечно, сделал много памятников. Самые известные — это, конечно, памятники Ленину в Ульяновске и в Москве, в Лужниках, Калинину — в Ленинграде. И отец, и мать в 30-е годы оформляли станции московского метро. Знаменитая “Площадь Революции” — работа отца. Отцовские барельефы висят на станции “Измайловский парк”, а мама делала рельефы для метро “Динамо” (и в верхних павильонах, и внизу) и на “Добрынинской”. И у обоих очень много скульптурных портретов. Отец, по-моему, слепил всех наших военачальников, а мама — балерин и спортсменок.
— И все-таки родители не настаивали, чтобы вы продолжили семейную традицию?
— Абсолютно. “Хочешь рисовать — рисуй”, — говорил отец. Я в художественную школу поступил уже в сознательном возрасте, в 15 лет, когда мы переехали из Ленинграда в Москву через эвакуацию. Поскольку до этого я видел только работы своих родителей-скульпторов, а дедушкино творчество мне не очень было знакомо, на меня произвело огромное впечатление творчество художников, которые из блокадного Ленинграда выехали с нами в эвакуацию. Как сейчас помню эти свои ощущения. И я начал пробовать писать красками то, что мне нравилось. А нравился восход — мы рано вставали на рыбалку, куда ходили почти каждый день, пропитание добывали. И места там красивейшие были. Еще помню, приставал с дурацкими вопросами к художникам. Один из них писал в это время, видимо, заказную картину, на которой был изображен расстрел партизан. Так я, наверное, замучил его, прося ответить, почему он картину пишет с точки зрения тех, кто расстреливает.
— Многие считают, что пейзаж — это умирающий жанр. Особенно с таким бурным развитием фотографии.
— Вы знаете, состояние природы меня возбуждало и возбуждает до сих пор. Я вижу пейзаж и радуюсь. И не думаю о том, кто там что говорит, а просто пишу, что мне нравится.
Есть такие места, куда Гуго Матвеевич ездит, как завороженный, в любое время года. Это ближнее Подмосковье и Серебряный Бор. Жена Нина почти всегда с ним: “Вот я сижу рядом и вижу, как это безумно трудно — писать пейзаж. Сейчас светит солнце, через мгновенье налетели облака — и все другое: освещение, тени. До сих пор не понимаю, как он ловит и, главное, удерживает то состояние природы, которое начал писать”.
— Это надо в себе тренировать, а можно что-то и по памяти сделать, — продолжает Гуго Матвеевич. — Мы с приятелем иногда шутили, когда вместе ездили писать: “Ну вот это дерево можно убрать, стог сена — подвинуть”. Не в этом же дело, где что стоит, а важно, чтобы картина получалась и по композиции, и по свету. Но это приходит далеко после школы. В свое время меня очень увлекали поездки. Даже тема такая была — “Пятнадцать союзных республик”, когда я, можно сказать, проехал через всю страну.
— Вероятно, вы привезли из поездок огромное количество работ. А сколько всего пейзажей у вас сейчас — не считали?
— Да нет. Много, ну, наверное, несколько сотен.
— Может быть, подсчитать по каталогам?
— Времени не хватает. В 1985 году у меня вышла большая монография. С того времени написано очень много работ. Хорошо бы, конечно, заняться новым альбомом, но вы же знаете, как это сейчас трудно.
— Я знаю, что многие из этих работ посвящены Москве...
— У меня есть два или, по-моему, три комплекта открыток с московскими сериями. Не так давно мне предложили сделать персональную выставку с московскими пейзажами. И удивительное дело — писал, как будто впервые видел Москву. У нас в городе до сих пор есть такие потрясающие уголки! Организаторы, честно говоря, с трудом поверили, что все картины написаны только что. А на меня что-то нашло. Вообще, лучшие работы мною пишутся, как правило, за один сеанс. Поймал мгновение, настроение — и вперед. Главное — пейзаж, что называется, не засушить.
— Гуго Матвеевич, вы с детства окружены творениями своих родителей, деда. Мне всегда было интересно, что должно происходить в душе человека, выросшего среди таких вещей?
— Вы знаете, ощущения музея у меня, конечно, не возникало. Хотя знаете... еще в раннем детстве, думаю, в году 34-м (мы как раз вскоре переезжали с одной квартиры в Ленинграде на другую), я почему-то лежал на папиной постели (по-моему, я тогда заболел), и передо мной висели его работы. И очень хорошо помню взгляд с одного портрета — как эти глаза на меня смотрели, даже сейчас мурашки!
— Так, может быть, этот взгляд заставил вас быть художником? Загипнотизировал?
— Ну, я в мистику не верю...
“А я верю в связь времен, — вступает в наш разговор Нина. — Ты посмотри вот на этот пейзаж, написанный Гуго на Валдае. Видишь — озеро, дымка на озером. А теперь пошли покажу картину деда”. И действительно, ощущение такое, как будто дедушка, писавший свою картину 100 лет назад, взял у внука фрагмент и поместил его фоном на портрете отца бабушки. Мистика совершенная. За портрет самой бабушки, необыкновенно красивой женщины по имени Стелла, Генрих Матвеевич Манизер в 1895 году получил золотую медаль на конкурсе портретов. Тогда, кстати, в расцвете были Серов, Репин.
— Интересные имена даются в вашей семье — Стелла, Гуго... Откуда, кстати, у вас такое необычное имя?
— Был скульптор такой — Гуго Романович Залеман. Его рельефы на фасаде Пушкинского музея. И отец, который учился у этого скульптора, видимо, настолько любил и уважал своего учителя, что дал мне его имя.
— Отец ведь ваш, насколько знаю, до самой кончины курировал в Академии художеств образование. Теперь вы профессор Суриковского института, кандидат искусствоведения и, наверное, можете сравнить художественное образование сейчас и тогда.
— Мне кажется, сейчас очень отстает средняя художественная школа, в том числе и училища. Когда ребята поступают к нам в институт, они не знают подчас элементарного: как построить форму, как разобрать светотень. Иногда мне кажется, большинство проходит экзамены просто благодаря обычному везению: вдруг попали в точку и прошли конкурс. А потом уже оказывается, что они всего этого не изучали.
— Сколько вы уже преподаете в Суриковском?
— Да уж 27 лет. А до этого еще 13 лет в Текстильном институте на кафедре рисунка, и это время вспоминаю как одну из своих самых больших творческих удач.
— Как понять?
— А понимайте как хотите — в Текстильном институте я познакомился со своей женой Ниной.
P.S. Буквально на днях Нина Пуляхина-Манизер преподнесла своему мужу-юбиляру подарок — она стала заслуженным художником Российской Федерации. Такое звание, между прочим, большая редкость среди художников-модельеров.